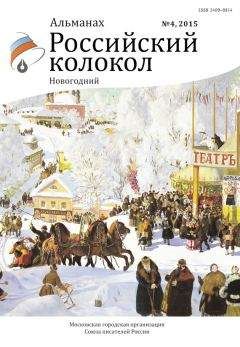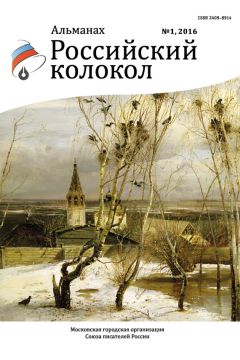Нас определили в детский дом, детдом. Сейчас он имеет № 17. Там были группы приводных детей (ведь огромное количество матерей работали на фабрике) и одна постоянно круглосуточная.
Это я знаю потому, что когда однажды ночью зимой случился небольшой пожар, нас быстро подняли, одели и вывели во двор, и никаких других групп там не было, хотя днями они резвились в разных уголках в достаточном количестве.
Детский дом располагался недалеко от прачечной, где работала наша бабушка. И иногда на воскресенье она забирала нас по одному или сразу обоих к себе домой. Я помню: дедушка сотворил чудо-санки, накрыл их кожухом из фанеры – получилась маленькая кибитка с окошечками по бокам, – ив сильные морозы забирали меня одного. Я особенно любил, когда бабушка роняла меня в этой кибитке на неровностях дороги и сердилась. Тогда она говорила: «Ох, несчастье ты мое». А я заливался от смеха.
Бывало, что меня по уговору забирал кто-нибудь другой и вел к бабке в прачечную. Там в теплой, влажной духоте за почти непроницаемой стеной мятущегося пара едва угадывались под низкими тусклыми лампочками полуголые, в полупрозрачных мокрых холщовых рубахах, с подоткнутыми подолами, разновозрастные тела работающих вручную женщин. Эта картина и сейчас в подробностях стоит перед моими глазами. Где-то сбоку подсвечивали горящим пламенем квадратные, с мой рост, печи, на которых стояли котлы с греющейся водой. Если бы Гюстав Доре побывал в писцовской прачечной моего детства, его картины дантова ада были бы еще более живописны. А тогда… это был просто труд на победу. Здесь она начинала коваться, именно женскими руками.
Чьи-то матери и жены, сестры и дочери отстирывали нательное солдатское (подштанники и рубахи) и постельное госпитальное белье от крови, дерьма и грязи, чтобы в нем было легче воевать и быстрее выздоравливать. А потом, чтобы придать белью свежесть, шли к речке и в мытилке (небольшой домик с настилами) или прямо в проруби полоскали его в ледяной воде. Боже ж ты мой, если ты существуешь, – как же тебе их не было жалко? Как же тебе не стыдно за твое равнодушие к ним, если ты все видишь? Почему ты устраиваешь ад хорошим людям еще при жизни?
Когда я вспоминаю эти картины, меня до сих пор охватывает дрожь. До чего ж тяжелой ценой далась нам победа [и нашлись люди, которые сдали ее). Я абсолютно уверен, что большая доля ее легла на плечи женщин, что гораздо легче было выйти на поле боя и погибнуть, чем вынести это. Но моя бабушка шла и работала. Ежедневно. Ворочала тонны измызганного добра, чтобы вернуть его к жизни, чтобы увеличить сыновьям, и не только своим, счастливый шанс вернуться домой.
Разговоры бабушки с дедушкой я не очень понимал, но уловил, что к матери нашей они относятся отрицательно. Особенно горячился дед, употребляя при этом всяческие бранные слова. Бабка в таких случаях говорила: «Не шуми при ребенке».
Но маму я продолжал любить. И ждал, когда она вернется и заберет нас с Борькой к себе. Но время шло.
Мы с братом сравнительно быстро обжились в группе. Вероятно, потому, что нас не разлучили. Хотя я не сказал бы, что мы всюду были рядом или постоянно вместе.
В детдоме я познал первую любовь. Девочка была, видимо, чуть постарше меня. Поведение ее было смелым, а взгляд – прямым и открытым. Не таким, как у некоторых, – стеснительно-жеманным. Она была премиленькая. И когда ловила на себе мой назойливый взгляд, а больше я ничем не мог выразить свое поклонение, она спрашивала:
– Бойков, я тебе нравлюсь?
Я отвечал:
– Да! – и она сразу отходила к другим мальчикам.
Но однажды к нам в группу пришла новая воспитательница. Длинноволосая русая девушка с огромными глазами в пушистых ресницах и ангельским, почти детским ротиком. Словом, красавица. Все дети – и мальчики и девочки – в нее влюбились, за ней ходили гурьбой, ее любили слушать, у нее добивались расположения. Конечно, послушанием.
Я заметался: кому отдать предпочтение? Девочка мне нравилась. Но воспитательница была готовой принцессой из читаемых ею сказок.
Как-то раз, уже по весне, когда мы гуляли в боковой от садика части двора, мальчики соревновались, кто дальше пописает. А моя «маленькая любовь» сказала, что она так тоже умеет. Поднялась на крыльцо, которым обычно, вынося ведрами грязную воду, пользовались нянечки, сняла запросто трусики и, глубоко-глубоко присев, пустила вверх струю. Да такую сильную, да так далеко! Все мальчишки, и я в том числе, просто остолбенели.
Не знаю, что со мной случилось, но с этого момента я стал чаще оказываться под рукой любимой воспитательницы, оттесняя других, получая ее покровительственные поглаживания по голове и плечам или напрашиваясь на ее ласковые слова.
Во время послеобеденного сна – а надо сказать, что моя кровать стояла рядом с ее рабочим столом, – я частенько подслушивал ее шептания с няней или гостьей из другой группы о чем-нибудь таком. Конечно, о парнях, об отношениях с ними, подругами, о любви и изменах. Я, разумеется, ничего не понимал в деталях, но отмечал по настроению, хорошо или как обстоят дела у моей воспитательницы. И однажды, когда она в сердцах сказала, что не пойдет даже провожать своего Петра, я открылся и позвал ее шепотом к себе. Я попросил ее наклониться ко мне и также шепотом сказал: «Милена Владимировна (назовем ее так), вы, пожалуйста, замуж не выходите. Подождите, пока я вырасту!»
Потом, конечно, из многих литературных источников я узнал, что не был оригинален. Многие дети влюбляются в своих воспитателей (или учителей) и просят о том же. Но незабвенная Милена Владимировна поставила меня тогда в трудное положение. Она склонилась к моему уху еще глубже и, приятно придавив меня своей упругой грудью, шепотом же ответила: «Хорошо, я согласна. Но тебе надо будет перестать писаться».
Я решил сразу же начать следить за собой. Я искренне верил, что раз другие могут, то получится и у меня. Я только не знал еще, что не все зависит от воли.
Результат, однако, опрокидывал все мои надежды, и скоро я убедился в тщетности своих попыток.
Но любовь моя не умерла, она просто затихла, перестав тревожить несбыточными желаниями и поменяв выражение. Любовь вообще не умирает, если это любовь. Вот и сейчас она воскресла как память. Надо все же отдать должное, что Милена не ругала и не корила меня за плохую выдержку, но… кровать мою переставили в другое место… Чтобы, вероятно, я крепче спал.
Насколько я любил Милену Владимировну, настолько не любил Юрию Львовну [так назовем другую воспитательницу). Милена, говоря проще, была не очень правильной, но человечной. А эта была занудистой и сухой. Милена не воспитывала нас, а просто жила с нами. А эта шлифовала на нас свои приемы. Милена продержалась около года, и, расставаясь, мы едва не плакали о ней. Юрия Львовна впоследствии руководила воспитательницами и зыркала на нас маленькими озлобленными глазками. Мне досталось однажды от нее по самые некуда.
Подготовка к обеду была для нас самым волнующим моментом. Более волнительным, чем самый обед. Запах свежих щей и подливки к картошке, которые вносились в огромную нашу залу в ведрах и кастрюлях воспитательницей и няней, сразу же поднимал нас от любых игр и занятий, и мы сбивались в кучу чуть поодаль от столов и жадно следили, как разливаются щи и много ли гущи попало в твою тарелку. Это нетрудно определить, когда переворачивается черпак.
Если была теплая погода, нас на этот момент уводили на веранду и отделяли дверью, припертой стулом. Тогда подглядеть раздачу удавалось немногим, тем, кто ростом был повыше, доставал глазами до дверных стекол или заранее вооружался стульчиком.
Как вы поняли, место за столами у каждого было свое и то, что попадало в тарелку, которая ставилась одна за другой, заранее становилось твоим. Независимо оттого, много в ней было или мало, густо или жидко. Но предметом наших мелких раздоров и стычек некоторое время оставался хлеб. Его строго по количеству едоков за столом складывали кусочками в одну большую тарелку.
Когда давалась команда садиться, мы бросались по местам, кто скорей, и каждый стремился побыстрее оказаться возле общей тарелки с хлебом и захватить либо горбушку, либо кусок потолще.
Не подумайте, что мы были плохими детьми. Просто мы были голодны. Пайки уменьшались всем. Постоянное недоедание, маленькие порции вынуждали каждого быть порасторопнее. А то, что мы были нормальными детьми, доказывалось тем, что никто никогда не брал больше одного куска. Борьба возникала естественно, где разница уже не бралась в расчет, но ее улавливали наши глаза, ноздри, наши животы.
Горбушка к обеду становилась предметом наиболее желанным, потому что она была потяжелее, поплотнее и сытости давала больше. А уж если в тарелке было жидко, то половинку ее можно было покрошить так, чтобы она заменяла гущу.
Но однажды за одним из столов легкая схватка закончилась ревом и пролитым супом. На нашу беду, а может, и счастье, к нам заглянула, проходя мимо, заведующая Прасковья Яковлевна. Она никогда не хмурилась, не бранилась, не трепала за плечо. Мы почитали ее. И, может, именно поэтому испугались ее появления.