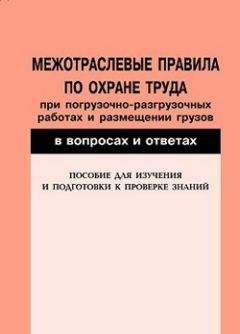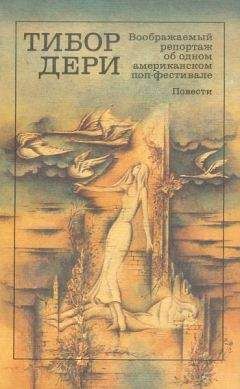Будто услышав этот горестный выдох, Ковальский повернул лодку к берегу. Вылез на косу, чертыхнулся весело:
— Мужики, завтра с вами в пороги пойду. Возьмете матросом?
Так закончился первый день путешествия.
Вскоре после того, как мы покинули бивак на устье Кудули, слева возник приток. Это река Хани, туда свернула трасса БАМа. Мир развороченной земли и взорванных скал исчез за кривыми лиственницами. Да и сама просторная долина Олекмы в этом месте будто оборвалась у подножия гор. Вот оно, ущелье, к которому я так стремился... Река, только что широкая и плавная, сузилась, стала стремительной, бурливой. Пенящаяся от берега до берега стремнина приняла нас...
Под вечер грохочущие валы вытолкнули плоты в громадный омут. Олекма образовала здесь что-то вроде озера почти в километр длиной. Река Тумуллур врывается в это озеро яростным, белым от пены и брызг потоком и затихает, теряется в бесшумной олекминской глубине. Гряда массивных черных валунов окаймляет песчаный пляж, а с противоположного берега обрываются в воду красные скалы стометровой высоты. Вдоль берегов кружит и кружит «обратное течение»: клочья пены с порога и ветки плывут узкой полосой поперек реки, огибают скалу и заворачивают навстречу, будто кто-то размешивает воду в гигантском котле.
— Мужики дно веревкой мерили,— вполголоса сказал Ковальский,— двадцать метров.
— Таймени тут должны жить.
— Здесь такие таймени, что твой крокодил.— Ковальский поправляет бинокль на шее.— Мишка Поляков, лесник, зацепил раз на блесну, дак тот его так мотал по всему улову вместе с лодкой, все пальцы в кровь изрезал.
— И что?
— Ушел. Килограмм под сто был. Может, он нас сейчас слушает.
В устье Тумуллура Ковальский «накрыл» браконьеров — на сей раз с поличным: запрещенной снастью, оружием, битой дичью. Трое парней вяло оправдывались: «Кормиться-то в тайге чем-то должны, не голодать же».
— Ничего себе «кормиться»,— ворчал Ковальский,— этих сетей хватит, чтобы всю рыбу в реке истребить. И документов у вас нет. Откуда я знаю, может, вы беглые какие.
Вид у троицы действительно был варнацкий — грязные куртки, путаные бороды торчат клочьями. Мужики сконфузились и, видя, что дело может ухудшиться, достали из заначек документы. Браконьеры оказались штатными охотниками, то есть людьми, вроде бы изначально заинтересованными в сохранении богатства природы. Но куда деваться, лежит, распластав крылья, на дне дюралевой лодки птица, которую убили на гнездовье, а значит, уничтожен целый выводок птенцов.
— Приезжие они,— сказал Ковальский и замолчал, будто все объяснил одним словом.
Собственно, все в этих краях — приезжие. Но не все, к счастью, считают, что в «диких местах» можно жить по первобытным законам, преследуя лишь сиюминутную выгоду. Здесь, на БАМе, я знал начальника мехколонны, запретившего под страхом увольнения рубить деревья на территории поселка. И знал бригадира плотников, упорно воевавшего с начальством, которое устроило заправку тракторов на берегу горного озера... Благодаря этим людям удается сохранять природу прибамовской полосы. Для них, как и для Ковальского, оконце прозрачной воды среди дикого леса за пять или семь тысяч километров от дома так же дорого, как родной город или родное село. У них, я бы сказал, есть ощущение Отечества.
II
Сразу за устьем Тумуллура неистовый порог поднял плоты на свою горбатую спину (меж волн открывались такие ямы, что с одного плота не было видно другой), бросил в корму с десяток ведер холодной водички и вытолкнул на плес.
Ущелье еще не кончилось, но поверхность воды теперь была ровной и отблескивала сталью. Хорошо был виден уклон реки, и оттого возникало ощущение, будто мы бесшумно скатываемся по стеклянной плоскости. Далеко впереди снова слышался шум — там гладкое стекло глухо разбивалось о камни: начинался очередной порог.
Так прошел второй день, а за ним третий, четвертый... Мы уже не встречали ни людей, ни людского следа. Не тронутая цивилизацией земля проплывала, покачиваясь, мимо бортов. Что-то изменилось в самом воздухе... Что? Ах да, XX век остался позади.
Здесь думалось о другом.
Еще собираясь на Олекму, я постарался изучить то немногое, что известно об этой реке. (Советский энциклопедический словарь, например, скупо сообщает, что «Олекма — река на юго-востоке азиатской части СССР, правый приток Лены, 1436 км. Площадь бассейна 210 тыс. кв. км. Порожиста. Ср. расход воды 1950 кубометров в секунду. Сплавная. Катерное судоходство от с. Енюка».) В первую очередь я перечитал скудные документы о землепроходцах — именно по этой реке в середине XVII века прошел от устья до верховьев отряд Ерофея Хабарова. Результатом того тяжелейшего похода стало присоединение к России Приамурья и низовьев Уссури.
История землепроходцев интересует меня, коренного дальневосточника, давно. Летопись их походов дошла до нас лишь в кратких деловых донесениях — «скасках», сухих и обрывочных. Благодаря журналистской работе и увлечению краеведением я за последние десять-пятнадцать лет облазил, кажется, всю северо-восточную Сибирь и Дальний Восток. И все больше росло удивление: какие невероятные жизненные силы вели моих предков к неуютным берегам «для проведывания землиц добрых» и «для прииску и приводу под государеву царскую высокую руку неясачных немирных иноземцев тунгусов». Через гиблую тайгу и комариные болота, через заснеженную тундру по льдистым, иссеченным ветрами берегам продвигались на северо-восток горстки бородатых полуголодных русских мужиков — и основывали города, и открывали новые моря, острова, крупнейшие реки континента, и выясняли, что «Америка с Азией не сходятся».
У вечерних костров, в часы отдыха, мне отчетливо виделись их лица, слышались их разговоры, становились понятными их тревоги, усталость, надежды. Олекма незаметно уводила в XVII столетие: на многие сотни километров она осталась в точности такой же, как триста лет назад. И легко было представить такое же лето, обычное олекминское лето,— 1649-е от рождества Христова...
Они плывут на дощатых лодках из Якутска, семьдесят «охочих людей», готовых идти за Ерофеем Хабаровым хоть на край света. Позади торопливые шумные сборы. Новый якутский воевода Дмитрий Францбеков, сменивший проворовавшегося предшественника, отнесся к затее найти проход на Амур благожелательно. Выдал из казенных припасов порох, свинец, пушку, а к ним — «наказ» облагать данью местное население: «На государя с них ясак имати, соболи и шубы собольи, и лисицы черные, и черно-бурые, и бурыя...» Перечень пространный, включая золото, серебро «или каменье дорогое, по их изможенью».
Поначалу река просторна и глубока. Лодки легко скользят мимо зеленых островов вверх по течению, устойчивый попутный ветер надувает паруса. На больших сибирских реках несложно плыть против течения, ибо летними днями ветер обычно тянет вверх по руслу (нам частенько приходится воевать с порывами ветра, который пытается утащить плот вверх безо всякого паруса). В штиль мужики нажимают на весла, но тихих дней на Олекме почти не бывает: она рассекает Становое нагорье, великий водораздел великих океанов — Северного Ледовитого и Тихого, и потому массы воздуха кочуют по ее долине из теплых стран в холодные и наоборот, как в огромной аэродинамической трубе.
В отряде двадцать пашенных крестьян. Они поглядывают на отлогие берега с особым пристрастием, щупают на биваках пойменную землю, разминают в заскорузлых пальцах комочки, сдувают пыль, мотают бородами: «А чо, должна родить. Кабы попробовать. Трава, эвон, выше головы вымахала». (Спустя два века их потомки будут растить хлеб в низовьях Олекмы и продавать его окрестным приискам по пятьдесят тысяч пудов ежегодно.)
Но постепенно горы приближаются к берегам. Километров через триста от ущелья мужиков встречает первый порог, не особо их настороживший. Ведь каждый из них, чтоб проникнуть в сибирскую глубь, уже прошел по рекам не одну сотню километров, а сам Ерофей Павлович — из потомственных поморов. Так что, дождавшись хорошего ветра и помолясь, одолели они первое препятствие, я думаю, под правым берегом — там волны глаже.
Сейчас этот порог называется «Белая лошадь». Почему — я выяснить не смог, да и не у кого было. Единственный на две сотни километров в округе житель Степан Шилов только пожал плечами на расспросы: «Дык кобылка и кобылка». Грешен, хотелось услышать какое-нибудь «преданье старины глубокой» про лошадь Ерофея Хабарова, утонувшую во время... и так далее. Но о лошадях в отряде документы не упоминают.
Избу Степана мы увидели в сумерках ненастного дня: блеснул вдруг огонек на высоком правом берегу. Гадали, пока подгребали поперек мощного течения к обрыву, кого бы это занесло: вроде для охотника не сезон, а больше сейчас некому... Но оказалось, Шилов живет здесь в избушке круглый год. Один в тайге, и до ближайшего поселка четыре сотни километров по реке.