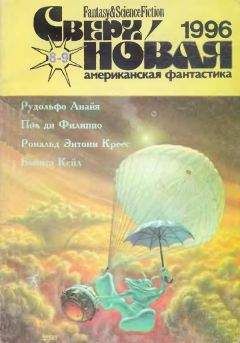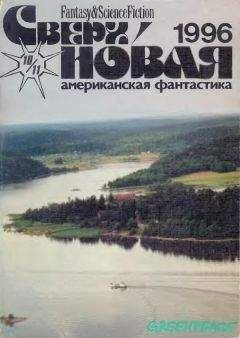— Велика честь предоставить кров для Ла Гранде, — прошептала моя мать. Она называла Ультиму «Ла Гранде» из почтения. Это означало, что женщина полна годами и мудростью.
— Я уже отправил с Кампосом весь о том, чтобы Ультима пришла к нам жить, — сказал удовлетворенно отец. Он знал, как порадует это мою мать.
— Я рада, — нежно промолвила она. — Быть может, нам удастся хоть чем-то оплатить те милости, что оказала Ла Гранде столь многим.
— А дети? — спросил отец. Я знал, отчего выражает он озабоченность по поводу меня и сестер. Ультима была целительницей, женщиной, понимавшей толк в травах и снадобьях предков, способной чудотворно исцелять больных. И я слыхивал о том, будто Ультима могла отводить проклятья, насылаемые ведьмами, bruias, что она может снимать порчу, которую ведьмы наводят на людей, чтобы те хворали. И из-за этой своей власти целительницу часто воспринимали превратно, а порой подозревали в том, будто она сама занимается колдовством.
При мысли этой меня охватила дрожь, в сердце вошел холод. Народные преданья полнились рассказами о порче, насылаемой ведьмами.
— Она помогла им появиться на свет, и не может принести моим детям ничего, кроме добра, — отвечала мать.
— Esta bien[15], — зевнул отец, — наутро я отправлюсь за нею.
Вот так и решилось, что Ультима придет к нам жить. Я знал, что отец и мать поступают хорошо, предоставив Ультиме кров. Было обычаем заботиться о престарелых и хворых. В семейном тепле и мире всегда находилось место еще для одного человека, будь он другом или чужаком.
На чердаке было тепло, и пока я тихо лежал, вслушиваясь в звуки отходящего ко сну дома, и повторяя про себя «Богородицу», я вступил во время снов. Как-то я рассказал матери о своих снах, и она ответила, что они — видения от Бога, и она счастлива, от того что собственным ее видением было, что я вырасту и стану священником. После этого я не рассказывал ей больше своих снов, и они остались внутри меня навсегда…
В этом сне я летал над волнистыми холмами льяносов. Душа моя странствовала по темной равнине, пока не приблизилась к кучке хижин из кирпича-сырца. Я узнал деревеньку Лас Пастурас, и сердце мое возликовало, в одном окошке за глинобитной стеной был свет, и видение сна повлекло меня к нему, чтобы стать свидетелем рождения младенца.
Я не различал лица матери, отдыхавшей после родовых мук, зато мог видеть престарелую женщину в черном, что опекала новорожденного, от которого шел пар. Проворно она завязала узелок на пуповине, связывавшей младенца с кровью матери, затем быстро наклонилась и перекусила ее зубами. Вернув извивающегося младенца, она уложила его рядом с матерью; затем вернулась убрать постель. Все простыни были брошены в стирку, но заботливо она завернула ненужную часть пуповины и послед, возложив сверток у небольшого алтаря, к подножью Девы. Я почувствовал, что вещи эти еще предстоит куда-то доставить.
И вот людям, терпеливо ожидавшим во тьме, разрешили войти и поговорить с матерью, и преподнести младенцу подарки. Я узнал братьев матери, моих дядей из Эль Пуэрто де Лос Лунас. Они вступили внутрь с подобающей важностью. Терпеливая надежда жила в их черных, задумчивых глазах.
Этот станет одним из Луна, — сказал старик, — он станет земледельцем, и сохранит наши традиции и обычаи. Быть может, Бог благословит нашу семью, и он будет священником.
И, выражая свою надежду, они потерли черной землей с речной долины лобик ребенка, и окружили ложе плодами своего урожая, так что в маленькой комнатке разнесся запах свежих стручков чилийского перца и кукурузы, спелых яблок и персиков, тыкв и зеленой фасоли.
Тут безмолвие разорвал гром копыт; с криками и револьверной пальбой домик окружили вакеро, а когда вошли внутрь, они смеялись, пели и пили.
— Габриэль, — вскричали они, — у тебя прекрасный сын! Из него выйдет славный вакеро! — Они передавили фрукты и овощи, окружавшие кровать, а вместо них водрузили седло, седельные одеяла, бутыли виски, новое лассо, сбрую, ноговицы-чапаррехос, да старую гитару. Они стерли след земли со лба младенца, потому что негоже мужчине быть связанным землею, но подлежит быть свободным от нее.
То были родичи моего отца, вакеро с равнин. Они были неистовыми, буйными людьми, бродягами по бескрайнему равнинному морю.
— Нам пора вернуться к себе в долину, — заговорил старик, глава земледельцев. — Нам нужно взять с собой кровь, что осталась после родов. Мы схороним ее на своих полях, чтобы обновить их силу, и увериться, что дитя последует нашему образу жизни. Он кивнул старой женщине, чтобы та передала ему сверток у алтаря.
— Нет! — вскричали вакеро. — он останется здесь! Мы сожжем его, и пусть ветры льяносов развеют прах.
— Это святотатство, — развеять кровь человечью над неосвященной землей, — прозвенели голоса земледельцев. — Младенцу следует воплотить мечту матери. Он должен придти в Эль Пуэрто и возглавить в долине род Луна. Кровь Луна крепка в нем!
— Он — Марес! — вскричали вакеро. — его предки были конкистадорами, мужами мятежными, словно море, что они пересекли, и столь же вольными, как земля, что они покорили. Он — отцовской крови!
Проклятья и угрозы наполнили воздух, появились пистолеты, и противники изготовились к битве. Но столкновение было остановлено старой женщиной, принявшей ребенка.
— Прекратите! — и мужчины затихли. — Я извлекла этого младенца на свет божий, и потому мне надлежит скрыть послед и пуповину, что прежде связывала его с вечностью. И лишь мне ведома будет его судьба.
Видение стало блекнуть. Открыв глаза, я услыхал, как отец заводит снаружи грузовичок. Мне хотелось отправиться с ним, хотелось повидать Лас Пастурас, увидеть Ультиму. Поспешно я оделся, но опоздал. Грузовичок, попрыгивая, уже мчался вниз по козьей тропе, что вела к мосту, на трассу.
Как обычно, я оглянулся, поглядев вниз по склону нашего холма, на зелень у реки, поднял взгляд и оглядел городок Гуадалупе. Колоколенка церкви возвышалась над крышами домов и деревьями. Я сотворил перед собой знак креста, единственное здание, которое спорило с церковью, возвышаясь над домами, была школа. Этой осенью я пойду в школу.
Сердце упало, при мысли о том, что я покину свою мать и отправлюсь в школу, теплая, дурнота волной подкатила к горлу. Чтобы избавиться от нее, я побежал к клетке, что держали мы у molino, чтобы кормить живность. Я дал еды кроликам еще ночью, и люцерны у них было достаточно, поэтому я только поменял им воду. Разбросал немного зерна голодным курам и поглядел на невообразимую суматоху, когда петух кликнул всех клевать. Я подоил корову и пустил пастись. Весь день она будет кормиться вдоль дороги, где трава густа и зелена, а к ночи вернется. Она была послушная, и мне редко приходилось бегать за нашей коровой, чтоб пригнать домой вечером. Позднего времени я боялся, потому что она могла уйти в холмы, где порхали в сумерках летучки, и лишь стук собственного сердца отдавался в ушах на бегу, и в одиночестве мне становилось грустно и страшно.
Я подобрал три яйца в курятнике и возвратился завтракать.
— Антонио, — улыбнулась мать, принимая яйца и молоко, — иди завтракать.
Я сидел напротив Деборы и Терезы и ел свое атоле[16] с горячей тортильей[17], намазанной маслом. Говорил я мало. С сестрами почти совсем не разговаривал. Они были старше и очень дружны между собой. Обычно сестры проводили целые дни на чердаке, играя в куклы да хихикая. Их дела мало меня занимали.
— Ваш отец отправился в Лас Пастурас, — воскликнула мать. Он поехал, чтобы привезти Ла Гранде. Руки у нее были все белые от муки; она месила тесто. Я пристально следил за ними. — А когда он вернется, я хочу, чтобы вы, дети, вели себя как должно. Не годится вам позорить своих отца и мать…
— Ее и в самом деле зовут Ультима? — спросила Дебора. Такая уж она была, всегда задавала взрослые вопросы.
— Вам следует обращаться к ней «Ла Гранде», — ровно заметила мать. Поглядев на нее, я подивился — верно ли, что эта женщина — роженица из моего сна.
— Гранде, — повторила Тереза.
— А правда, что она ведьма? — спросила Дебора. Ах, тут-то она и получила по заслугам! Я видел, как мать рванулась было, но потом сдержала себя.
— Нет! — сказала она с упреком. — Нельзя говорить об этих вещах! О, где только вы понабрались этих замашек! — Глаза ее наполнились слезами. Она всегда плакала, когда ей казалось, что мы поддаемся обычаям отца, обычаям рода Марес. — Она — женщина учения, — продолжала мать, и я понял что у нее нет времени прерываться и плакать, — она много потрудилась на благо всех жителей деревни. О, я никогда не пережила бы тех тяжких лет, если б не она — так что окажите ей почет. Это честь для нас, что она приходит под наш кров, ясно?