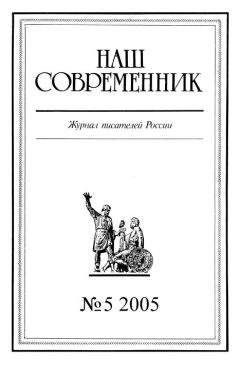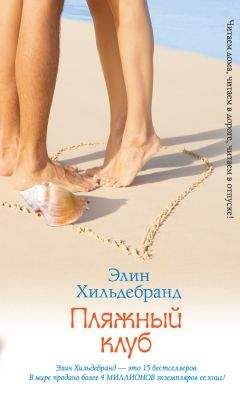В школе Митя учился хорошо, но без особого интереса, предпочитая вкладывать душу в домашние занятия и увлечения, коих было довольно много, включая чтение. Кроме уже упомянутых рыбок, птички и черепахи это были гантели, бокс, солдатики и изготовление моделей кораблей царского военно-морского флота. Корабли и были настоящей Митиной страстью. Вместе с отцом (вспомним деда-картонажника!) модели изготавливались из картона с помощью столярного клея, туши, фольги, спичек, проволоки, ниток, морских флажков по образцам из роскошных старинных цветных альбомов с картинками и чертежами, которых у отца было много. Все свободное место на полках и шкафах было заставлено макетами-моделями кораблей российского и иностранных флотов. Детское увлечение привело Митю в Кораблестроительный институт, куда он блестяще сдал вступительные экзамены, доказав, что его потенциал в школе абсолютно не был реализован. В Митином школьном аттестате сплошные четверки. Пятерки он имел только по немецкому языку и черчению. К сожалению, проучиться Мите довелось лишь два месяца, после чего он был призван в армию, а там началась война.
Так как я росла с двумя братьями, предпочитала мальчишеские игры, влезала на деревья, носилась с деревянной шашкой, стреляла из лука. Не помню, чтобы я когда-нибудь укачивала куклу. Мы все очень любили домашний театр, дореволюционную игру, где в огромном ящике лежали декорации — задники и кулисы, фигурки персонажей известных пьес. Ящик переворачивался вверх дном, в котором были отверстия для крепления декораций. Картонные фигурки держались на деревянном основании с длинными картонными полосками. Эти полоски просовывались под основание декораций, и сзади можно было их передвигать и за них говорить. Мы с Митей сочиняли и свои истории и разыгрывали их для родителей.
Митя был моим непременным провожатым. Он водил меня к преподавательнице немецкого языка. Мы довольно далеко (Марта Даниловна жила на Пантелеймоновской) шли пешком мимо Марсова поля и Летнего сада, останавливаясь иногда у мороженщицы, где Митя съедал маленький кружочек между вафлями, на которых были разные имена. Вафли доставались мне. Иногда, на обратном пути, Митя поил меня любимой газированной водой. С третьего класса я перевелась в музыкальную школу-десятилетку при консерватории за Мариинским театром в Матвеевском переулке. Поскольку занятия заканчивались в 8 часов вечера, когда было уже темно, за мной непременно приезжал Митя и стоял в гардеробе в сторонке — единственная маленькая худенькая фигурка среди ожидавших своих одаренных чад дородных и разодетых мам и бабушек. Я неизменно кидалась ему на шею, так я была рада его видеть. Домой предписывалось матерью идти пешком («Ната мало гуляет»). Частенько по дороге я капризничала, прося его взять мой довольно тяжелый портфель, но Митя в этом вопросе был совершенно непреклонен. Это был принцип — «свой портфель неси сама». Это тоже было воспитание. Особенно мне запомнились наши поздние возвращения в полной темноте: во время войны с финнами было затемнение. Было очень таинственно и немножко страшно.
Митю тоже пробовали учить музыке. Наша тетка Соня, пианистка, училась в консерватории. Она давала Мите первые уроки, ничего из этого не получилось, несмотря на то, что Митя очень любил музыку и, несомненно, обладал приличным слухом и хорошим ритмом. То ли терпения ему не хватало, то ли он не считал это мужским делом, но занятия «не пошли». Потом мама и Соня обратили внимание на то, что я стала Митю поправлять, если он брал неверную ноту, напевая правильную или даже находя ее на клавиатуре. И моя судьба была решена, а Митю отпустили с миром.
У отца был огромный старинный граммофон и много пластинок — военные марши всех полков России и арии из знаменитых опер. Митя с удовольствием музыку слушал, ходил со мной на все наши школьные концерты, даже ходил со мной в Мариинский театр и в филармонию.
После того как Митя уехал служить в армии, я видела его еще несколько раз. Меня раза два брали с собой родители, когда ездили повидаться с ним в Павловск (Слуцк), где была Митина часть. Раза два-три он приезжал в более чем краткосрочный отпуск в Ленинград. И все. Далее — война, и письма, письма, письма… И постоянно сжатое сердце, которое отпускало только тогда, когда Митя попадал в госпиталь или находился в командировках в тылу.
В день, когда погиб Митя, 26 января 1945 года, у нас в ленинградском доме внезапно с пианино на пол упала его фотография. Рамка и стекло разлетелись вдребезги. Мать трясущимися губами сказала: «Всё, Митя не вернется!». Я заорала на нее: «Замолчи!». Но число это запомнила.
Наталия Кабанова
К 60-летию Великой Победы
Михаил Лобанов
ПАМЯТЬ ВОЙНЫ
22 июня 1941 года. Тополиный пух летал над деревенской улицей, лез в окна дома, в глаза. Было жарко, я собирался идти купаться на реку, близкую от нас Пру, как вдруг по радио объявили, что скоро будет передаваться важное сообщение. И вот ровно в полдень Молотов, нарком иностранных дел, объявил, что немецко-фашистские войска напали на нашу страну. Мы стояли с моим дядей по матери Алексеем Анисимовичем, как я его называл — дядей Лёней, у двери из одной половины избы в другую и слушали. И когда выступление закончилось, мой дядя, высокий, бледный, с ходящими по скулам желваками, словно застыл на месте, не сразу придя в себя, а потом, выругавшись, ушёл быстро в свою комнату. Ему было тридцать лет, у него только что родился второй сын, и он, конечно же, хорошо представлял себе, что ждёт его. А мне, пятнадцатилетнему, стало даже как-то весело. По радио гремела бодрая музыка, лилась «Широка страна моя родная» и что-то ликующее заливало душу, обещающее скорую победу. Но пройдёт всего несколько дней, всё изменится вокруг, и уже невозвратным раем покажется прежняя жизнь, когда всё было иным.
В 1941 году закончил я седьмой класс Екшурской средней школы на Рязанщине, а через полтора года, семнадцати с небольшим лет, был призван в армию, направлен в январе 1943 года в Благовещенское пулемётное училище (под Уфой). Но закончить нам его не дали. Уже в середине июля нас по команде подняли с нар и объявили об отправке на запад. Я попал на Курскую дугу, участвовал в боях стрелком первой гвардейской стрелковой роты пятьдесят восьмого гвардейского стрелкового полка восемнадцатой гвардейской стрелковой дивизии тридцать третьего гвардейского стрелкового корпуса одиннадцатой гвардейской армии. 9 августа 1943 года был ранен осколком мины в бою в районе населённого пункта Воейково, что в двадцати четырех километрах восточнее Карачева (Брянская область). За участие в боях награждён двумя боевыми орденами — Красной Звезды и Отечественной войны I степени. Пережитое в боях я передал в своих воспоминаниях «На передовой» («Наш современник», № 2, 2002).
В ноябре 1943 года я вернулся после ранения домой, с мамой мы пришли в избу бабушки, и, пока раздевался у порога, она появилась в дверях, сильно изменившаяся за десять месяцев. Она смотрела на меня долгим взглядом и вдруг затряслась в режущем душу плаче: «Не встречу… я больше своего сыночка… Мишу». Мое возвращение ещё больше растравило её горе: прошло всего полгода, как она получила похоронную на сына Мишу, двадцатичетырёхлетнего капитана, начальника штаба артиллерийского дивизиона, погибшего от прямого попадания авиабомбы в землянку, где находился его штаб. Но ждал бабушку новый страшный удар: в самом конце апреля 1945 года, за несколько дней до окончания войны, сгорел в танке под Веной второй её сын, двадцатилетний Костя.
От моей бабушки довелось мне услышать: «Сердце — камень, всё забывает», — и за этими словами чувствовалось столько горького — что не умерла, когда получила похоронную, а жить осталась, а жить-то им бы надо…
Осенью 1985 года я был в Каунасе и все три дня, пока там находился, думал о Мише, который служил в этом городе после окончания Рязанского артиллерийского училища. Бродил по улицам этого города и представлял себе, как и Миша ходил по этим же улицам. Вспоминал, как он приезжал домой из Рязани, как шли с ним ночью по узкоколейке из Спас-Клепиков в деревню Малое Дарьино, где я жил тогда у бабушки, его матери. Вспоминал, как послал ему в Каунас письмо со своими стихами и отзывом из «Пионерской правды» — вежливым отказом, и в ответ получил от Миши письмо с трёхрублёвым «гонораром» в нём.
В Каунасе, идя по улице, увидел я огромную толпу людей в каком-то праздничном оживлении. Подхожу, спрашиваю первого попавшегося человека: «Скажите, пожалуйста, что здесь происходит?» Человек молчал, на меня уставились глаза, застывшие в такой ненависти, что я опешил. Другой человек пояснил мне, что сегодня католический праздник. Меня поразило, что незнакомец, так ненавидящий саму русскую речь, видимо, верующий, пришёл молиться в этом соборе.