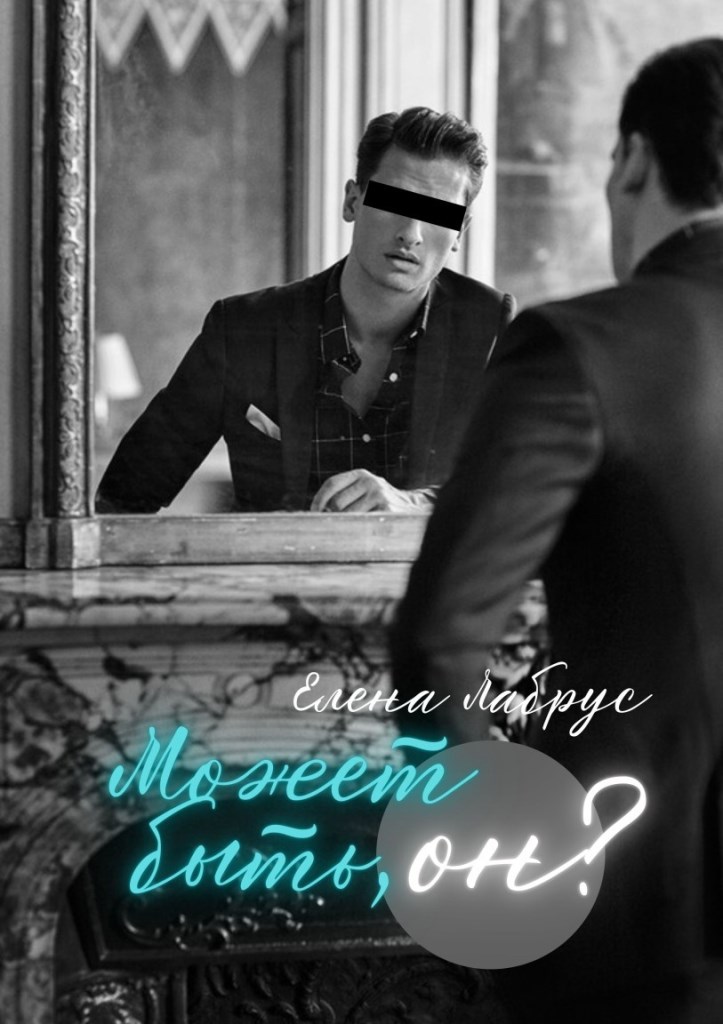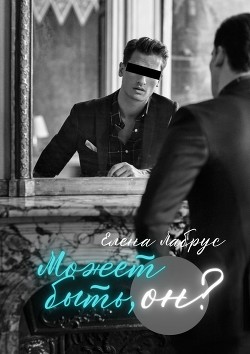его запах.
Вздохнула, чтобы не выдыхать. Чтобы спрятаться в вороте его рубашки. Захлебнуться в его неукротимом желании. Утонуть в его одержимости. Пойти ко дну, подхватив его ритм, подчиниться его рукам, потеряться в его дыхании и стать с ним чем-то одним. Единым. Неделимым.
Желанием, терпким и неистовым.
Удовольствием, сладким и проклятым.
Опьянением, тягучим и запретным.
Я не застонала, я скорее всхлипнула и кончила, подаваясь к нему, подтягивая к себе.
Любя и ненавидя.
Боготворя и проклиная.
Слабая. Падшая. Павшая. Порабощённая и поработившая.
Его.
Его навсегда.
Урод тяжело дышал, упираясь в стену лбом и прижимая меня к себе.
— Ненавижу тебя, — выдохнула я.
— Я знаю, — тихо засмеялся он.
Разжал руки. Поднял моё лицо за подбородок. Наверное, хотел что-то сказать, но только покачал головой, глядя на меня.
— Выходи, — кивнул он на дверь. Отошёл в сторону.
Трахнул и выгнал. Блеск!
Я схватила сумку и выскочила.
И ещё на ходу поправляла платье, когда меня вдруг окликнули.
— Настя?
Я подняла глаза. О, чёрт!
— Ты что здесь делаешь? — таращилась на меня Оксанка.
— А ты? — сглотнула я.
— Я, вообще-то, здесь работаю, — смерила она меня взглядом с ног до головы.
— Т-ты не говорила, что работаешь… здесь.
И я не успела ещё как-то логично объяснить своё тут появление. И как-то убедительно оправдаться за мокрое мятое платье, когда из туалета вышел Оболенский.
Оксанка изменилась в лице.
А я… я хотела провалиться сквозь землю.
Сука! Он же знал. Он точно знал, что Оксанка здесь работает. И когда она придёт.
Урод улыбнулся, раскланялся и ушёл. Просто ушёл.
В гробовой тишине хлопнула дверь.
— Он вышел из туалета? — приподняла брови Оксанка оглянувшись.
Да, твою мать! Да твою же мать! Здесь один туалет для посетителей.
— Мирон! — заорала Оксанка.
На её крик из подсобки выглянул хозяин кафе.
— Там замок в туалете сломали. Отправь кого-нибудь починить.
— Опять? — покачал головой Мирон. Махнул мне рукой приветствуя. — Ладно, я сейчас.
— Это не то, что ты думаешь, — выдохнула я, когда он ушёл.
— А я думаю, это именно то, — покачала головой Оксанка и, хмыкнув, скрылась за дверью служебного входа.
Наверное, мне надо было уйти. Без объяснений. Без оправданий.
Но я не могла.
Я села за тот же столик: с него вытерли и размазали тряпкой по полу разлитый кофе.
— Оксан, — позвала я, когда она вышла в фирменном переднике с блокнотом в руках. Вся такая важная, гордая, оскорблённая.
— Сейчас, заказы приму, — бросила через плечо с превосходством праведницы над грешницей, верной жены над бесстыжей блудницей.
Обойдя два столика с таким видом и скоростью, словно их было двадцать, она наконец снизошла — села на диванчик напротив меня.
— Если ты ждала меня только для того, чтобы попросить не говорить Захару, то зря тратила время. — Я вздохнула, тяжело, обречённо, не зная, с чего начать, но она вдруг протянула мне руку: — Я и так не скажу. Ты же моя подруга, — сжала она мою ладонь в своей. — Ты, блин, моя единственная подруга.
Я не сказала «спасибо», не выдохнула с облегчением. Да и не испытала его.
Как не чувствовала потребности всё ей рассказать, поделиться или покаяться.
Она, наверное, злорадствовала, что я не такая уж и святая, какую из себя строю, по её мнению, но мне было плевать. Я злилась на неё за то, что поверила. Ей, твою мать, поверила, когда она сказала, что Захар чем-то прижал Оболенского, что тот ему должен. Шла ва-банк, давила на Урода. И ошиблась. Во всём.
— Откуда ты знаешь то, что сказала мне про Захара? — забрала я руку.
Она пожала плечами:
— Просто знаю и всё, — Оксанка хмыкнула. — Взяла бы, да сама его спросила.
Угу. Я спросила.
— Мы не говорим про тюрьму, Оксан. Не обсуждаем Оболенского. Не вспоминаем, как познакомились.
Это была чистая правда. Мы не обсуждали и не собирались, пока не появилась Оксанка.
Но этой тупой сучке разве объяснишь, что о некоторых вещах не говорят.
Разве растолкуешь такие тонкости, что некоторые вещи выносимы только если о них молчать.
Что Захару невыносимо знать, что в тюрьме со мной делал Урод. А мне невыносимо об этом помнить.
Что если о чём-то не говорить, то через какое-то время кажется, что этого и не было.
А если произнести вслух — станет реальностью.
— О чём же тогда вы говорите? — усмехнулась она.
— О маме. О Луи Икаре.
— О ком? — скривилась она.
— Неважно. Откуда ты узнала?
— Ну, — она заёрзала на сиденье, — Оболенский тут встречается с разными людьми, я кое-что слышала.
— Оболенский никогда ни с кем тут не встречается, — смотрела я на неё в упор.
— Это когда ты тут работала, он приходил только ради тебя, — поправила она фартук и теперь расправляла листы блокнота. — Но потом все изменилось.
— Когда потом?
— Когда он ушёл от моей матери.
Хозяин кафе принёс инструменты ремонтировать защёлку, Оксанка повернулась на звук.
— Что ещё рассказал тебе брат про Захара? — заставила я её перестать таращиться на Мирона и снова повернуться ко мне.
— Да какая разница, — отмахнулась она.
Тупая сука!
— Большая! Я с ним живу!
Она снова посмотрела в сторону туалета, как бы давая понять, что я теперь не в праве ей указывать. Что-то в нервном движении, с которым она прикусила губу, было ещё, в том, как подрагивали её губы, как она стала грызть заусенец, как глянула на меня, коротко, остро, словно я не Захару изменила, которого она и так недолюбливала, а с её парнем переспала.
Может, смотри я на неё дольше, я