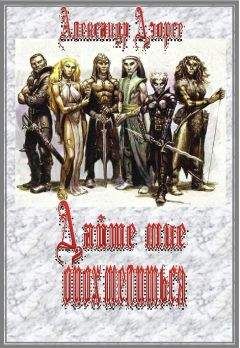а потом — сразу обратно, в закут, где лежал в беспамятстве синюх, закутанный в овчинку. Спал он долго, до самого вечера, однако же, супротив ожиданий Косьмы, так и не помер. Но и подняться пока тоже не мог, ворочался только, да по сторонам зыркал. Есть ничего не стал: Ядвига уж и щей кислых ему подносила, и пирога с ливером, и яичко крутое — нет, ни в какую. Молочка тёплого с мёдом в плошке развела, это выпил. Затем обратно уснул.
Подниматься чужинец стал лишь на третий день. Да и то тяжко ему далось, коли Ядвига не поддержала — непременно бы на пол повалился. Косьма кривился на такое глядючи, а Василина помнила: сам-то он, почитай, неделю пластом лежал, от кабана пострадамши.
Прозывали чужинца по-разному: Косьма — всё так же, синюхом, а Ядвига стала кликать Сенечкой, Василина же то так, то этак. Впрочем, раз уж именовать стали, то как бы и признали уже, как бы стал чужинец и не совсем чужой.
К хозяйству-то он не шибко был приспособлен: ручки малы больно, да хилые, колун нипочём не поднять. Зато пальчики имел чуткие, к механике, как оказалось, способные. У Василины ходики в дому имелись, от деда ещё память, стояли уж который год — Ядвига, когда малая была, за гирьку потянула, они и стали. Косьма их открывал, глядел в нутро, потом сказал, не починить, механизьм тонкой, ему не суметь. А чужинец — сладил: один день все заняты были, его уж без пригляду оставляли, он до ходиков и дотянулся, снял их со стены да и разобрал, все колёсики с пружинками по скатертке разложил. Василина первая увидала, сперва ругаться на него хотела, потом глядит — не из озорства он, а вроде как с понятием. И верно, повозился чужинец с ходиками, обратно собрал, ни одного лишнего винтика не забыл. Повесили ходики на стену, гирьку подтянули — они и пошли. Стрелки только на глазок поставили, по солнышку.
А ещё чужинец всё на зеркало заглядывался, что в простенке висело. Ну, прямо девица красная, ворчал Косьма, и не скажи, что мужик синий. К зеркалу чужинец тоже ручонки тянул, но высоко оно висело, с низким росточком и не достать. Зеркало Василина ему не доверила, и Ядвиге настрого запретила. Большое зеркало, светлое, немалой ценности вещь, и хрупкая очень, а ну как разобьёт ненароком — где другое такое возьмёшь? Нет, не можно.
Тогда Ядвига потащила Сенечку наверх, в светёлку. У неё там свой сундук имелся с приданым, а в сундуке, среди прочего, и зеркало лежало, в холстинку завёрнутое. Тоже ничего так, в оловянной оправе, но поменьше, в две ладошки размером. Им-то она, как хотела, могла распоряжаться, только всё одно не смотрелась в него, вот и убрала. Теперь вот снова достала, не для себя, для Сенечки.
Развернула Ядвига холстинку, подала зеркало чужинцу.
– Вот, Сенечка, погляди, что у меня есть.
Чужинец тут же зеркало схватил, принялся его гладить да ощупывать — с одного краю, с другого, то так наклонит, то этак... Ан нет, что-то всё не по нему.
– Нешто не нравится, что кажет? – спросила Ядвига. – Вот и мне тоже...
Отдал чужинец зеркало обратно, сам вроде как пригорюнился, голову повесил.
– Ты не тужи, Сенечка, – утешила Ядвига, – Мы уж с тобой как-нибудь...
Не докончила, горло вдруг перехватило отчего-то. Самой так грустно сделалось, слезинка по щеке пробежала. Чужинец руку протянул, щеки её коснулся. Лёгонько так, а Ядвига задрожала вся. Не с испугу, с другого чувства, что и словами ей выразить невмочь было. Пальчики-то у него мягкие, прохладные, а Ядвигу в жар кинуло. Тут чужинец обеими ладошками её лицо обхватил, да прямо в глаза посмотрел. Гляделась она ему в глаза, как в колодец бездонный. Где-то там, в глубине, мерцали звёздочки...
На другой день Ядвига взялась шуровать по сундукам, выискивать Сенечке зимнюю одёжу. Впору пришёлся старый бабушкин салоп. И подшитые валенки, в которых сама Ядвига девчонкой бегала. Мужицкое-то всё чужинцу оказалась велико. Окромя шапок, шапку так и не подобрала подходящую, ни одна ему на голову не лезла. Пришлось Сенечке голову платком повязать. Косьма увидал, как Ядвига чужинца вырядила, обсмеялся весь, икотка даже пробрала.
– Вот так к-краля! Щёчк-ки тока свёк-клой подрумянить – и хоть счас замуж.
– Зато тепло, - отмахнулась Ядвига.
– Никак выгулять его собралась? – спросила Василина.
– Ага, – ответила Ядвига. – По лесочку с ним поброжу. А то цельными днями в четырёх стенах, пускай хоть на белый свет поглядит.
В мыслях-то она своё держала, но даже маменьке не призналась, зачем чужинца из дому тащит. Вернее было сказать, он сам её надоумил, без единого слова. Как у него так получилось — Ядвига и объяснить бы не смогла. Одно знала: надо Сенечку до речки отвести, где лодка евонная упала.
Долгонько они до речки брели, три раза останавливались на передых. Уставал чужинец быстро, и шаг у него был короткий, что воробьиный скок.
Вышли на берег; глядит Ядвига — и впрямь не видать лодки, всё как папаня сказывал. И зачем только Сенечка сюда манил?
А он её с берега вниз тянет, к самой речке. Ну, пошла следом. Снегу-то много намело; Сенечка раз ступил, провалился чуть не по пояс. Барахтается, вылезти не может. Подхватила его Ядвига под микитки, вытянула. Так и пошла дальше с ним на руках, ей самой снегу повыше колен было.
Вышла на середину реки — что за чудеса? — словно шторку невидимую с глаз отдёрнули. Вот же она, лодка железная! Как лежала, так и лежит, только совсем в лёд вмёрзла да инеем покрылась.
Ядвига аж взопрела вся, пока вместе с Сенечкой до лодки дотащилась. Тут уж его опустила, сама рукавом утёрлась. Чужинец рукавицу с руки снял, приложил ладошку к голому железу — щёлкнуло что-то, и дверца округлая отворилась. Чужинец внутрь зашёл, а Ядвига вдруг оробела. Стоит, с места не может сдвинуться. Ну как залезет она в лодку чужинскую, а лодка тотчас с места снимется да и улетит невесть куда? И поминайте как звали, дорогие родители...
Тут Сенечка снова подошёл, в глаза Ядвиге посмотрел, и опять ей сделалось спокойно. Полезла вслед за ним, в лодку евонную.
Никогда Ядвига в лодках не бывала, не ведала, как они изнутри устроены. Но чужинская лодка была очень уж чудная. Свет внутри тусклый, серенький, словно осенью в пасмурный