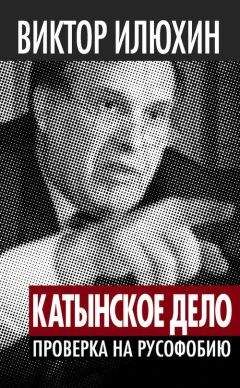По справедливости
Казарма и военный госпиталь были взорваны: густая едкая пыль наполнила воздух, искореженные бетонные плиты громоздились друг на друга, из руин торчали изогнутые куски арматуры, слышались стоны раненых…
Те, кто мог, выбирались сами. Плац заполнялся контуженными. Кашляли, отряхивали пыль с одежды, просили пить, курили, лежали на земле.
Казаков с бойцами опергруппы подъехал, когда расчистка завалов шла полным ходом.
— Ты дежурил? — спросил он молодого бойца, часового, растерянно топтавшегося возле ворот. Солдат виновато кивнул.
— Почему убрали заграждения?
Солдат испуганно хлопал глазами, шмыгал носом. Еще час тому назад на него бешено мчался грузовик, надвигалось перекошенное ужасом лицо шахида, машинально вскинул он автомат и выпустил длинную очередь по кабине. Дернулся и упал на руль смертник, но набравшая скорость машина смела высокие железные ворота, влетела на территорию, громыхнуло смятое железо, вздрогнула земля, потерял сознание солдат, а когда очнулся, уж стоял над ним огромный и спокойный майор Казаков и задавал непонятные вопросы.
Заграждения? Уж не те ли это железобетонные блоки, лежавшие поперек дороги, которые убрали вчера? Конечно, будь они на прежнем месте, не проехал бы «Камаз», а взорвался бы прямо возле КПП. Тогда — и ему амба…
Старые надолбы приказал заменить командир части, генерал Бубнов. Новые положить не успели, и дорога у ворот на целые сутки оказалась открытой. За генералом установили наблюдение, и вскоре арестовали… Моложавый кавказец, не таясь, принес прямо в его служебный кабинет триста тысяч долларов.
— Ваши? — спросил Казаков, открывая чемодан с деньгами.
— Ничего не знаю… Подбросили, — угрюмо насупясь, отвечал Бубнов, коренастый мужик с круглым упитанным лицом и свирепым взглядом, широкий нос испещрен мелкой лиловой сеточкой. — Хватит шутить, майор. С огнем играешь… — Пахнет трибуналом…
— Да кто ты такой, черт возьми, чтобы мне указывать, майор? — прорычал Бубнов. — Ты думаешь, что раз с Лубянки, тебе все можно? Ты здесь не один такой умный… И учти, уехать отсюда труднее, чем приехать… — Бубнов заговорил тише: — Не лезь не в свое дело, майор, я вижу, к чему ты клонишь. Выслужиться захотелось? Под генерала дело состряпать?! Забыл, почему здесь оказался?! Один мой звонок и у тебя будут такие проблемы, которых ты в страшном сне не видел… А поведешь себя по-умному, будешь и с деньгами и с наградами, я за тебя замолвлю слово, а сглупишь — пеняй на себя…
Казаков усмехнулся.
— Вы не поняли, генерал, речь сейчас не обо мне, а о вас…
— Все я понял, и ты меня понял… Мы друг друга хорошо поняли. Станешь под меня копать, я тебя закопаю… Помяни мое слово… Казаков молча приставил пистолет к запревшему лбу генерала.
— Не выстрелишь, майор… — нагло глядя Казакову в глаза, усмехнулся генерал. — У тебя таких прав нету. А вот выдерут тебя за меня — это точно. Так что забирай сколько в карманы влезет и вали-ка ты отсюда в свое управление. Понял?
— Понял, — ответил Казаков и спустил курок. Прозвучал сухой выстрел, время остановилось в глазах генерала, он обмяк и повалился на стол.
«Вот так надо было и тогда в Москве, со Щукиным, — подумал Казаков. — По справедливости…»
Вскоре Казаков был отозван в Москву. Смерть генерала списали на чеченских снайперов.
Мы долго боролись и долго искали,
И болью догадки полны,
Что всех нас, наивных, когда-то изъяли
Из дальней чудесной страны.
Живёшь, поступаешь, как все и как надо,
От жизни не ждёшь ничего;
Но вдруг к твоим окнам причалит корабль —
Не медли, взойди на него!
И пусть остаются все «рано» и «поздно»
За бортом того корабля.
Он курс безошибочно держит по звёздам,
Плывёт без ветрил и руля.
И светлой печалью сменяется горе,
Всё глуше тяжёлый прибой;
И кто-то смеётся над ласковым морем,
И нежно зовёт за собой.
И близится миг исполнений желаний,
И вот уж, глядите, видна
Сквозь дымку мечтаний, туман вспоминаний
Волшебная эта страна.
Там игры дельфинов и чаек плесканье,
Там людям неведома боль,
Там алыми шхуны горят парусами
Для каждой счастливой Ассоль!
Жалобно кошка мяучит,
Жалобно петли скрипят;
Дождик из серенькой тучи
Моет заброшенный сад.
Из обезлюдевшей кухни
Сладким не тянет дымком;
Мокнут забытые туфли
Под почерневшим крыльцом…
И переполнена бочка
Праздной холодной водой,
На сторону скособочена —
Лопнет, бедняга, зимой…
Дальним гудком электричка
О расписанье поёт,
Только никто по привычке
Не ускоряет свой ход.
Лишь в переплётах оконных
Стёкла в ответ дребезжат,
И с нежилою истомой
Петли калитки скрипят…
Минет липкое лето,
Канет хлипкая осень,
Истомлённое тело
Передышки запросит.
С каждым вечером вечер
Как изюм разбухает,
В загорелых плечах
Угольки остывают.
Бесполезно унынье
Опечаленной плоти,
Коль родная земля
Лик от Солнца воротит.
Спите, дети России…
В вашем сне серебристом
Струйки летнего ливня
Барабанят по листьям,
В тополях зарождается
Пуховая пурга,
И медовой испариной
Дышат луга…
Был город как город и вдруг его
Посетил великий колдун.
Как все колдуны, был нелюдим,
Высокомерен, угрюм.
Плащ следы заметал в пыли;
Нахохленный капюшон;
В глазницах ворочались угли глаз;
Брёл, будто приплясывал, он…
Народ таращился на него
С балконов, из подворотен;
Мамаши детей загоняли в дома,
Осенялись крестом Господним.
Он брёл, на шушукающую толпу
Не обращая вниманья;
Вдруг замер, как вкопанный, возле угла
Одноэтажного зданья.
Толпа подтянулась, вытянув шею —
Что он высмотрел там, под ногами?
В сточной канаве валялись две крысы
С разбухшими животами…
— Увы, вам, люди! — прошамкал колдун. —
Сквозь толщу каменных стен,
Сквозь ваше довольство, беспечность и смех
Я чую пепел и тлен!
Умолк, запахнулся и дальше побрёл.
Толпа расступилась, нема…
А в щель занавески ревнивым взором
Его провожала чума…
С Антониной Павловной Кожемяко я встречалась в прошлом году в Яропольском краеведческом музее.
18 мая 2013 года ей исполняется 89 лет. Для нее это двойной праздник, так как 18 мая — еще и Международный день музеев.
Сельский библиотекарь, создатель и бессменный директор Яропольского краеведческого музея, заслуженный работник культуры РФ, она до сих пор является хранителем и гидом своих любимых детищ — музея и библиотеки.
Вот ее рассказ.
Шел 1941 год. Немцы приближались к Волоколамску.
До прихода фашистов в деревне Парфеньково колхозники успели засыпать семенной фонд для посева на будущий год, прирезать колхозных коров и раздать мясо по воинским частям, а колхозное имущество мой отец Павел Константинович, председатель колхоза, решил раздать колхозникам.
Мама с тремя младшими детьми эвакуировалась, мне, самой старшей, исполнилось семнадцать, и я осталась с отцом. Несколько лет тому назад ему оторвало кисть руки в льномялке, и я, как говорил отец, была его правой рукой.
30 октября 1941 года в деревню вошли немцы.
Нас с отцом выгнали из дома. Приютили соседи. Но тут же объявились предатели — братья Селиверстовы. По их наводке разыскали отца, привели в немецкий штаб и приказали отобрать у колхозников ранее розданное зерно. Папа отказался, тогда его посадили в холодный погреб.
Немцы спешили к Москве и через несколько часов выступили из деревни в сторону Клина, забыв про отца. Колхозники выпустили его из погреба.