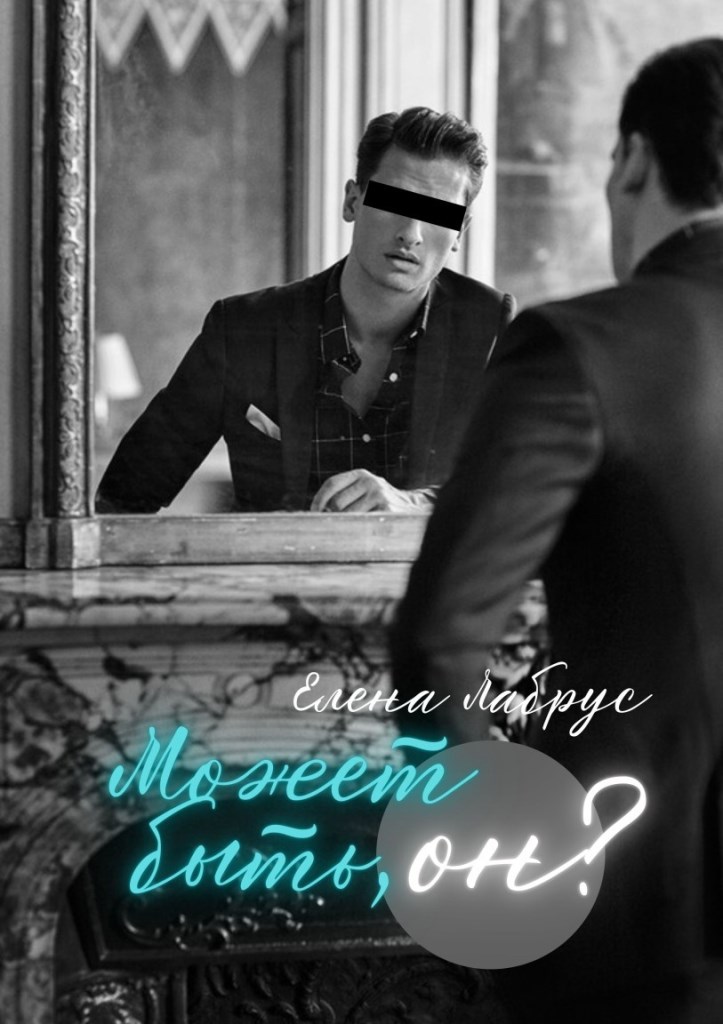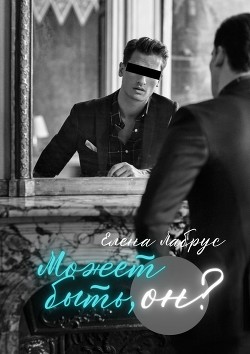дождливым майским днём, пахнущим едва зацветающей черёмухой, я настояла на том, чтобы мама пошла со мной в кино…
— Всё, я сейчас лопну, — отвалилась она к спинке диванчика. — Пицца, десерт, мороженое.
— А ты ещё хотела пиво взять, — злопамятно напомнила я.
— Хорошо, что ты меня отговорила. И сейчас я выпью самый крепкий эспрессо какой только варят в этом кафе и пойдём.
Мы так и сделали: она в два глотка осушила крошечную чашечку кофе, я — допила чай.
В пустой кинотеатр, где любителей молодого Жана Габена собралось по пальцам одной руки пересчитать, мы ввалились самые последние. Уже погас свет. И мы плюхнулись на первые попавшиеся места.
Если бы я знала тогда, что это будет наш последний с мамой фильм. Наши последние два часа вместе. Я бы, наверное, не отрываясь держала её за руку. И после сеанса, когда мы решили сократить путь и пошли через тот чёртов двор, не позволила ей пойти, не позволила вмешаться.
Не знаю, зачем я потащила её на этот фильм, куда она не хотела идти.
Но я потащила и шипела, когда она комментировала и хихикала, какой смешной этот нуар, а одинокий романтичный герой-одиночка в плаще похож на эксгибициониста.
— Ну давай, распахни плащ, — подначивала она. — Вот сейчас. Сейчас самое время.
— Мама! — качала я головой.
— Ах, прости моя дорогая, — показывала она: молчу, молчу. И тут же снова отпускала какую-нибудь шуточку.
— Если ты надеешься, что я тебя больше не возьму, то зря стараешься, — отвечала я.
— А что значит « Люке де брюн »? — прочитала она название на афише, когда мы вышли.
— Лё ке , — поправила я. — Лё ке де брюм .
— Де бр-р-рюм, — передразнила она грассирующую «Р», которую учительница французского считала у меня идеальной.
— Пристань туманов. Или Набережная туманов, — перевела я.
— М-м-м, звучит красиво.
Сильный, сдержанный и немногословный. Таким был герой Жана Габен в том проклятом фильме. Я была в него тайно влюблена. В них во всех, одиноких героев с моральным кодексом самурая, безнадёжно влюблённых в роковых красавиц. И всё равно между Хамфри Богартом, героем «Касабланки» и Жаном Габеном — выбрала француза.
— Так не играют в рулетку, так в ней не выиграть.
— Разве есть способ в ней победить?
— Есть способ проиграть не так быстро.
Цитировала я маме. Не из этого фильма, и даже не из французского. Но тогда мне хотелось показать, насколько для меня всё это важно. А ещё, что в отличие от неё, папы, бабушки, дедушки и даже в отличие от Гринёва, я не собиралась в медицинский. Я в доктора не пойду.
— У тебя есть ещё целый год подумать, — говорила она. — И вообще, одно другому не мешает.
Я соглашалась, просто не желая спорить.
Она отступала, в надежде, что я передумаю.
— А знаешь, что, — вдруг сказала она, когда мы свернули в подворотню, чтобы сократить дорогу. — Куда бы ты ни решила поступать, не бросай французский.
Это были едва ли не её последние слова.
После её смерти я не сказала на французском ни слова.
И зачем только мы свернули? Почему не взяли такси? Ведь всего и надо было — остановиться. Или пойти другой дорогой. Но мы свернули…
— Может, квартиру обокрали? — спросила я Гринёва, оглянувшись по сторонам, со слабой надеждой, что ни Оксанка, ни тёть Марина, даже Урод тут ни при чём.
Следы пальцев на покрытой пылью тёмной мебели. Открытые шкафы. Передвинутые вещи.
Меня тоже не отпускало ощущение: в квартире что-то искали.
— Смотря что ты имеешь в виду, говоря «обокрали», — усмехнулся Гринёв. — Ведь не из-за этого же тебе понадобилось прийти.
— Я пришла за серёжками. Хочу надеть на выпускной, — соврала я.
— Ну так бери. И пойдём, — усмехнулся Андрей и мне не поверил.
Затаив дыхание, я открыла маленький ящичек, где мама хранила серьги с параибой.
Серёжек не было.
«Может, мама их переложила», — дёргала я ящички, неизвестно на что надеясь.
Нет, уже известно на что. На то, что Оксанка не просто так приходила вчера вечером — она пришла положить на место то, что не принадлежит её маме.
Что не тётя Марина таскала из квартиры наши вещи. Не мамино платье мялось в ворохе её вещей. Не бабушкина камея пылилась в вазочке на тумбочке. Не на дедушкины настольные часы с бронзовым львом, увитые перламутровыми белыми розами, она небрежно бросила свою сорочку. И в старинном ящичке на комоде лежали не наши серебряные ложки с витыми ручками и ручной резьбой.
Всё это я видела перед глазами, словно внезапно прозрев, когда серьги вдруг выпали мне прямо в руки. С полки, из-за писем, куда мама никогда их не клала, сцепленные между собой застёжками и без бархатной коробочки, что лежала пустая.
Я выдохнула с облегчением.
Оксанка не знала, куда их положить, потому что не брала. Просто засунула подальше. И, конечно, она защищала свою маму (я бы сделала также) и, возможно, понятия не имела откуда у мамы эти вещи (у меня дома она никогда не была), но, когда я узнала серьги — она их вернула.
Так думала я, держа в руках два огранённых турмалина в россыпи бриллиантов, что, наверное, стоили целое состояние, но, по сути, были бесценны, потому что отец подарил их маме, а потом его привезли из Ирака в цинковом гробу.
Ещё была версия, что это жена деда и её адвокаты всё здесь перерыли, ведь они пришли на суд не с пустыми руками — с описью имущества. А мамины вещи тёть Марине дарил Урод.
«И Оксанка защищает не мать, а его! — застыла я. — Чёрт, она его… любит?!»
— Эй, с тобой всё в порядке? — окликнул меня Гринёв.
— Да. Да, — кивнула я, зажав в руке серьги. — Сейчас.
— Как скажешь, — кивнул Гринёв и пошёл в дедушкин кабинет.