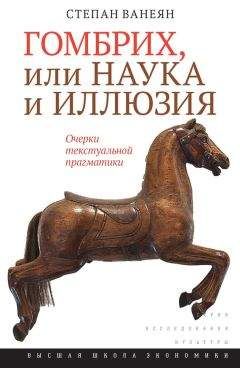Степан Ванеян
Гомбрих, или Наука и иллюзия. Очерки текстуальной прагматики
© Ванеян С. С., 2015
© Оформление. Издательский дом Высшей школы экономики, 2015
* * *
Эрнст Гомбрих: верхом на деревянном коне
(вместо предисловия)
На самом деле под искусством я понимаю то, что получается, когда кто-то берет в руку перо.
Эрнст ГомбрихВ каждой культуре канонические писания прошлого приводили к необходимости комментариев. На Западе и изобразительное искусство стало каноническим. Когда я озираюсь на мои работы, я бы хотел видеть их понятыми в качестве такого вот комментария, облегчающего моим читателям доступ к творениям прошлого.
Эрнст ГомбрихУ меня была крайне амбициозная программа в виде некоего триптиха. План был и остается в известной мере неизменным: написать, с одной стороны, о теории отображения («искусство и иллюзия»), а с другой – о теории свободной игры форм, что есть орнамент («чувство порядка»). А к среднику принадлежали бы, естественно, иллюстрация текста и символизм. И обо всем этом я уже написал.
Эрнст ГомбрихОговоримся сразу: Hobby Horse (он же – Steckenpferd) – вещь реальная, хотя и деревянная. И маленький мальчик, гарцевавший на нем в своей детской, став взрослым и ученым, никуда уже, кажется, на нем не скачет, но все так же восседает верхом на этом скакуне, открыто стремясь вперед в своих повествованиях и воспоминаниях. Под ним подлинная реальность – и совсем не то деревянное сооружение, в котором прятались иные герои иных рассказов… И размышляет ученый муж не только на нем – но и о нем: что этот конь не скрывает внутри себя, а открывает, есть ли у него это нутро и куда он устремлен, кто на нем, а не в нем тем не менее куда-то проникает?
Попробуем и мы, воспользовавшись этой и многими другими метафорами, проникнуть внутрь того мира, что не открыл, а сложил, соорудил, создал сэр Эрнст Ханс Йозеф Гомбрих, будучи, казалось бы, всего лишь историком искусства. Но был ли он им, была ли до него и остается ли после него такая наука?
Открывая любую книгу Гомбриха (проникая в нее – хоть и с разрешения и по приглашению!), обнаруживаешь помимо прочего и тот факт, что уже 50 лет тому назад искусствознание имело все основания претендовать на большее, нежели просто на историю искусства: без гештальт-психологии, без психоанализа, без семиотического литературоведения, без аналитической философии невозможно было уже тогда представить себе современную (или пытающуюся быть таковой) искусствоведческую науку.
Это не примечательное или даже замечательное ответвление исторической дисциплины, а достаточно суверенная отрасль гуманитарного знания – не со своим предметом интереса (этого-то как раз нет, не может быть и не нужно) и не со своим особым методом (что невозможно), но со своим местоположением в контексте дискурсов, причем вовсе не только когнитивных, но и, так сказать, креативных (ужасное слово!), хотя на самом деле – коммуникативных, то есть социальных. А если совсем точно – несомненно, перформативных, которым предшествуют практики информативные, а цели которых столь же безусловно – трансформативные.
Обобщающе-общительный характер этой науки – разделяющей общность и с искусством, и со знанием, и с душой, и с плотью, – обрел в лице и личности Гомбриха классический вид и типический характер самой эффектной из риторических фигур, которой он сам уделял немало внимания в своих текстах. Он сам – настоящая персонификация энциклопедизма, историзма, психологизма вкупе с неподражаемой респектабельностью того, казалось бы, чисто английского способа обращения с научным знанием, который на самом деле свято, хотя и тайно хранит верность континентальной и прежде всего германской учености (в ее не худшем, если не лучшем – венско-австрийском – изводе)[1].
Итак, что же мы в состоянии выяснить и уяснить с точки зрения трех обозначенных выше позиций? Что пережил Гомбрих (его жизнь, а значит – информативность), что он знал (его впечатления и влияния – это как раз перформативная составляющая) и что он сотворил (а это – само современное искусствознание, современная история культуры, современная семиотика искусства и современная философия творчества и даже больше – преддверие и подготовка современного состояния науки об искусстве, то есть чистой воды трансформативность).
А за кулисами этой разворачивающейся постановки ждут своего выхода и ответов совсем иные вопросы: что значит, когда зрелый историк оглядывается на уголок собственной детской с игрушечным конем, что значит отсутствие у этого коня собственных конечностей, заменяемых ножками ребенка, что значит эта явная регрессия в контексте исторического когнитивного прогресса?
Итак, жизнь, которую мы постараемся изложить, с одной стороны, в самых основных сюжетных линиях, снабдив всякого рода деталями и обрамляющими мотивами, вводя по ходу действия новых и неизбежных героев.
Гомбрих принадлежал и принадлежит Вене не только по роду деятельности и по типу образования, но и по происхождению: он родился 30 марта 1909 г. в высокообразованном еврейском семействе (перешедшем в протестантизм около 1900 г.), глава которого – Карл Гомбрих – юрист, по словам сына, «совсем не приспособленный к деланию денег»[2] (он был школьным другом Гуго фон Гофмансталя, с которым, однако, позднее разошелся, не вынеся его эстетизма). Мать Гомбриха – Леони Хоке – была по-настоящему замечательной пианисткой-педагогом, ученицей А. Брукнера, и преподавателем сестры Густава Малера. Эта музыкальная среда пронизала своим духом (дыханием и звучанием) детство и юность Гомбриха, питая – через воспоминания – на протяжении всей жизни его самые фундаментальные и, вероятно, достаточно латеральные настроения.
Таким, безусловно, глубинным аспектом является отношение Гомбриха к христианской вере – как раз в связи с обращением в христианство родителей[3].
В частности, Гомбрих подчеркивает, что отец его матери принципиально не хотел знакомить свою дочь с иудаизмом, у отца Гомбриха «было немного знания этой традиции», сам же Гомбрих «никогда с иудейским воспитанием не соприкасался». Обращением же не просто в христианство, а в довольно радикальный протестантизм (в католической Австрии!) его родители были обязаны своей хорошей и очень почитаемой знакомой, другу семьи Нине Шпиглер. Тогда она была замужем за известным евангелическим мистиком и христианским поэтом Зигфридом Липинером, евреем по происхождению, последователем Ницше и Вагнера, переводчиком Мицкевича, оказавшим, по мнению многих, в том числе и Гомбриха, решающее влияние на Густава Малера. Липинер собирал у себя дома своих последователей и единомышленников, в том числе и на лекции по искусству, трактуя его в духе Рёскина. Сын Нины – Готфрид, будущий физик-радиолог, был ближайшим другом Гомбриха и оказал на него большое влияние:
…именно он помог мне понять, что интерпретация образов таит в себе немало проблем[4].
Касательно иудаизма – вот такое соображение:
Я не испытываю ни малейшего желания отрицать или умалять мое еврейское происхождение, но когда я думаю об истории, я имею в виду скорее западную культуру, чем культуру гетто, хотя о последней, быть может, у меня слишком мало знаний[5].
В автобиографии Гомбрих подробно останавливается на своем отношении к Вене. Она для него была не имперской и декадентской Веной fin de siècle, а Веной послевоенной, пребывавшей в довольно плачевном состоянии. Кроме того, подчеркивает Гомбрих, следует всячески избегать «венского мифа» как такового: Вена совсем не была «монолитным обществом, где каждый толковал или о современной музыке, или о психоанализе». Она была
интеллектуально живым городом, но совсем не похожим на те самые клише, которые можно использовать, но не без щепотки соли[6].
Другой друг семьи – скрипач Адольф Буш познакомил юного Гомбриха с «Размышлениями над всемирной историей» Якоба Буркхарда. Сам Гомбрих был опытным виолончелистом, всю жизнь любил домашнее музицирование, хотя и не обольщался относительно своего дарования (впрочем, еще одно порождение венского гения – атональную музыку – он так и не смог принять вслед за своей матерью, которая хорошо знала Шёнберга, но не считала возможным поддерживать с ним отношения).
Гомбрих подробно останавливается на музыкальной стороне личности своей матери Леони Хоке, в том числе тщательно перечисляя тех великих музыкантов, с которыми она была знакома или кого ей посчастливилось слушать. Еще в детстве – это Иоганн Штраус в Народном саду (Volksgarten), в консерватории – Брукнер, потом Лешетицкий, а также Антон Рубинштейн и Брамс. С Шёнбергом она даже играла концерт, но тот никак не мог взять верный темп. Стать профессиональной исполнительницей ей категорически запретила ее мать, считавшая, что это занятие по степени неприличия мало чем отличается от участи «цирковой наездницы»[7]. Став преподавателем музыки, мать Гомбриха вошла в круг Густава Малера, будучи наставницей его сестры (сестра же Гомбриха Деа была ближайшей подругой дочери Малера Анны), сблизившись одновременно с известной певицей Анной Бар-Мильденбург – женой писателя Германа Бара, на вилле которых новорожденный Гомбрих провел первые месяцы своей жизни[8]. Кроме того, сестра Гомбриха была хорошей знакомой Антона фон Веберна и Альбана Берга[9].