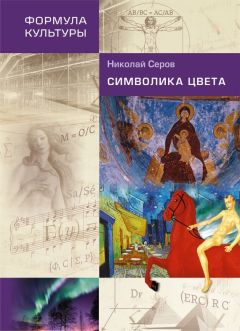А. Блок приобрел репродукцию Мадонны в Италии. Она напоминала поэту Любовь Дмитриевну Менделееву.
Каббала считается с царской властью этого цвета и соотносит его с пониманием ощущений. Так, совершенно черная «храмина размышления» наводит неофита-масона на мысли о бренности и тленности жизни на Земле. И при посвящении в высшие степени масонства черный бархат ложи или мантии старшего святого брата говорит о цвете смятения – цвете первоначала Премудрости.
Черным цветом в христианстве наделяется дьявол и ад. Черный – цвет дьявола, а потому и греха, и его искупления Христом. Отсюда скорбь и аскетизм (монахов) также символизировались черным цветом.
Ибо черный – как противоположность белого – является цветом неизвестности, конца и в общем – физической смерти в будущем. Как подчеркивал Эрих Фромм, ясность существует относительно прошлого, а относительно будущего ясно только, что когда-нибудь да наступит смерть. Отсюда и одежда черного цвета – знак скорби. Отсюда и цвет панихид – черный.
Так как черные предметы всегда кажутся тяжелее остальных, то в теории композиции отмечается, что черный цвет дает неправильное ощущение формы предмета, поскольку заглушает светотень. В хроматизме же эта бесформенность черного цвета объясняется тем, что он сублимирует в себе информацию будущего времени, которая, разумеется, не может быть полностью оформлена, опредмечена, осознана в настоящем.
Разумеется, этический взгляд на цвета дает многое для понимания их семантики, но при этом остается непонятной причина, по которой именно черным цветом символизировалась Мать-земля; или почему в христианской миниатюре, в церковной и станковой живописи Дева Мария нередко изображалась при Благовещении в черных одеждах; или почему гениальность меланхоликов часто характеризовалась черным цветом. Как будет показано ниже, хроматизм отвечает на эти вопросы достаточно определенно.
Папа Иннокентий III установил черные литургические цвета для оплакивания. В православии темные цвета (всех оттенков) богослужебных облачений используются в посты, тогда как чисто черный – в дни Великого поста. Ибо черный (иногда темно-коричневый) в православии наиболее близок по духу дням Великого поста.
В геральдике черный означает благоразумие и мудрость. Черный – это абсолютное поглощение всех цветов. И «света» с его условностями, моралью и правопорядком. И по визуально-физическим свойствам черный цвет характеризуется такими значениями, как темный, трудный, тяжелый, теплый, впитывающий, всасывающий, поглощающий. Об этом же говорят и устойчивые словосочетания типа «черная работа», «черный рынок», «черный юмор» и т. п.
У тюркских народов слово «кара» – «черный» – означало темное небо с яркой полярной звездой, которая помогала сориентироваться в ночи, и этим же словом обозначали все главное, великое. Поэтому «кара» служило и титулом человека – «черный», т. е. великий, могучий. В казахской культуре, к примеру, «кара» ассоциируется с дьяволом, то есть с силами, вызывающими потребность в познании.
По данным Аллы Черновой, в Англии эпохи Возрождения черный носил каждый, кто был погружен в «черную» меланхолию, кто скорбел, кто жаждал смерти. В одной из песен, сочиненных Шекспиром, есть слова:
Надел я черный цвет,
В душе надежды нет,
Постыл мне белый свет.
Во времена Шекспира существовало несколько взглядов на меланхолию. Первый, идущий по традиции от средневекового врача Галена, считал меланхолию состоянием, враждебным жизни. Другой взгляд, высказанный еще Аристотелем, оценивал меланхолию как состояние, полезное для размышления и творчества. Немецкий философ XV века Николай Кузанский оценивал меланхолию как путь человеческого духа к истине.
Альбрехт Дюрер. Меланхолия, гравюра, 1514
Во времена Дюрера считалось, что меланхоликами чаще всего бывают творцы, ученые и философы. Надпись на гравюре «Melencolia I» означает, что художник видел в меланхолии творческое начало.
С середины XVI века в Европе черный окончательно утвердился как траурный. Он мог быть и глухим черным, и сочетаться с белым, а французский король Генрих IV, оплакивая своих фавориток, носил черный костюм, вышитый серебряными слезами, черепами и потухшими факелами.
Политически черный цвет являлся символом пиратства, но в XIX–XX веках трактовался по-разному. Как сообщал В. В. Похлебкин, со времен Лионского восстания ткачей 1831 года черный цвет в Западной Европе (в основном во Франции, Италии и Испании) символизировал рабочее движение, и в этом качестве, как символ бунтарства, был усвоен анархистами всех стран. Одновременно черный цвет в странах Центральной, Северной и Восточной Европы отождествлялся в основном с клерикализмом, а отсюда позднее, с конца XIX века, и вообще с реакцией.
В середине XIX века черный цвет «возглавлял» черно-желто-белый государственный флаг Российской империи. И в то же время черный цвет признали своим народовольцы («Черный передел», 1879 г.). Позднее, начиная с 1902–1903 годов, а особенно после революции 1905–1907 годов, этот цвет отождествлялся с черносотенством, ультранационализмом.
Накануне 1917 года все партии правее кадетов считались «черными». В первой четверти XX века это обозначение относилось особенно к реакционным, ультраправым партийным группировкам за пределами России, в частности к эстонским ультранационалистам («синимуста» – «сине-черные») и к итальянским ультранационалистам (с 1916 г.), из рядов которых позднее вырос итальянский фашизм («чернорубашечники», 1919 г.), для коих черный цвет символизировал бунтарство. И если сегодня мы встречаем черный цвет на смертниках-террористах, то всегда знаем, что семантика его неизменна: асоциальность.
В конце 1915 года Казимир Малевич впервые выставил свой «Черный квадрат». Как писал тогда идеолог «Мира искусства» Александр Бенуа, «черный квадрат в белом окладе – это не простая шутка, не простой вызов, <…>, а один из актов самоутверждения того начала, которое <…> приведет всех к гибели». Сегодня мы понимаем, что не «Черный квадрат» привел Россию к захвату власти большевиками – художник лишь выразил свое чувственное отношение к тому будущему, которое являло ему художественное бессознание.
Много позднее в «Главах из автобиографии» художник писал: «Анализируя свое поведение, я заметил, что, собственно говоря, идет работа над высвобождением живописного элемента из контуров явлений природы и освобождением моей живописной психики от “власти” предмета. <…> Я никоим образом не хотел живопись делать средством, но только самосодержанием. <…> Натурализация предметов не выдерживала у меня критики и я начал искать другие возможности не вовне, но в самом нутре живописного чувства, как бы ожидая, что сама живопись рано или поздно даст форму, вытекающую из живописных качеств, и избегнет электрической связи с предметом, с ассоциациями неживописными».
Как можно заключить из этих признаний, в искусстве XX века произошел революционный скачок от ассоциативно-предметного восприятия к восприятию семантическому, наполняющему зрителя не прагматикой форм, а формой эстетики.
Живописное искусство, содержащее смыслы вне сюжетных композиций, по сути своей стало выявлять нечто между психологией и философией идей – причем идей в их чувственно-образном виде, не обрубленных композицией, сюжетом или мыслью. Раньше только природа могла создавать такие произведения искусства, к примеру, в цветовом отображении своих внутренних смыслов. Ибо до XX века существовал негласный закон: «Искусство начинается там, где кончается природа» (Оскар Уайльд).
Казимир Малевич. Черный квадрат, Черный круг, Черный крест, 1915
Воплощение супрематизма – беспредметной живописи – превосходства цвета над остальными качествами живописного искусства. Существует мнение, будто Пикассо охладел к кубизму, увидев «Квадрат» Малевича.
Как отмечал Гёте, художник говорит миру через общее, а это общее он не найдет в природе, но это есть плод собственного его духа или, если угодно, плод наития, оплодотворяющего божественное дыхание. Теперь же художник уподобился природе: в цветовом отображении своего внутреннего мира он освободился от догматической белизны социума – от сознания, веками довлеющего над его творчеством. И уайльдовский закон, по Малевичу, можно было бы выразить, наверное, так: «Искусство кончается там, где принимается социальное давление».
«Если искусство служит тому, чтобы “пробуждать чувства”, то входит ли в число этих чувств в конечном счете и его чувственное восприятие?» – поставил вопрос Людвиг Витгенштейн в работе «Культура и ценность» и ответил: «…Произведение искусства можно назвать если не выражением чувства, то чувственным выражением или прочувствованным выражением».