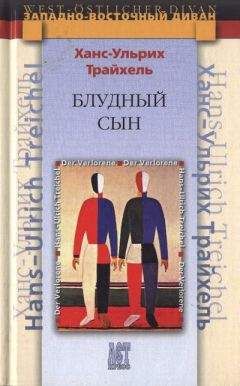Напряженность этой работы помогла мне осознать, что выставки — это мое. Выставка задает вам такой же ритм, как театр, с той только разницей, что вам необязательно самому все время находиться на сцене.
Почему вы начали именно с современного искусства?
До девятнадцати лет я хотел стать художником, но выставка Фернана Леже в Бернском кунстхалле 1952 года произвела на меня такое впечатление, что я сказал себе: «У меня так никогда не получится». По выставкам Рюдлингера в Бернском кунстхалле — от «Наби» до Поллока — можно было действительно изучить историю живописи. Рюдлингер первым представил современное американское искусство европейской публике и позднее, став директором Базельского кунстхалле, приобрел живопись Марка Ротко, Клиффорда Стилла, Франца Клайна и Барнетта Ньюмена в коллекцию Художественного музея Базеля. Со многими художниками он дружил — с Александром Калдером, Биллом Дженсеном и Сэмом Фрэнсисом. — и благодаря ему я познакомился со многими художниками в Париже и в Нью-Йорке. В Берне он сделал серию выставок, которая называлась «Современные тенденции 1–3» (Tendances aétuelles 1–3) — блистательный обзор послевоенной живописи, начиная с парижской школы и заканчивая американской абстракцией. После переезда в Базель у него стало больше пространства и денег, но настоящие приключения остались в Берне. Мейер занимал пост директора до 1961 года. Он первый показал в Швейцарии выставки Казимира Малевича, Курта Швиттерса, коллажи Матисса, Жана Арпа, Макса Эрнста; а еще он сделал выставки Антони Тапнеса, Сержа Полякова, Фрэнсиса и Жана Тингли. В 1961 году, придя в Кунстхалле на его место, я оказался перед лицом этого почтенного прошлого и должен был сменить направление.
Вам доводилось писать о Берне как о своего рода «ситуации» — «ментальном пространстве».
Искусство было для меня одним из способов бросить вызов понятию собственности/обладания. Поскольку Кунстхалле не имел коллекции, он больше походил на лабораторию, чем на коллективный мемориал. Нам приходилось импровизировать, чтобы выжать максимум из минимальных ресурсов, не теряя качества, чтобы другие институции хотели показывать у себя наши выставки и брали на себя часть расходов.
В 1980-х годах работа Кунстхалле становится более упорядоченной. Выставочная программа сокращается: вместо прежних двенадцати выставок теперь делается четыре-шесть выставок в год. А введение практики рестроспективных выставок художников, «находящихся в середине творческого пути», превратили Кунстхалле в продолжение самих музеев.
Да, раньше все было очень подвижно, динамично — и вдруг все изменилось. Раньше на повеску выставки и печать каталога у нас уходила неделя — а тут вдруг появляется надобность в месячном промежутке между выставками, чтобы все сфотографировать; со снижением темпа появились штатные преподаватели, реставраторы, смотрители. В 1960-х годах ничего такого у нас не было. Для нас педагогическая работа состояла в самой последовательности выставок; документации значение не придавалось. Мой подход был привлекателен для молодой аудитории, и один очень юный фотограф, Бальтазар Буркхард, начал документировать наши выставки и события — не для печати, а просто потому, что ему нравилось то, что я делал, и то, что происходило в Кунстхалле. Я предпочитаю работать именно так. На самом деле в какой-то момент я просто отказался от каталогов и выпускал только газеты, проклинаемые коллекционерами-библиофилами.
И этот опыт удался?
Конечно. У Кунстхалле была выставочная программа, но мы поощряли любые формы участия. У нас показы вали свои фильмы молодые режиссеры, мы открыли первый в Швейцарии «Живой театр», молодые композиторы исполняли у нас свои сочинения — например, играла группа Free Jazz из Детройта, — молодые фэшн-дизайнеры показывали свои работы. Реакция, естественно, не заставила себя ждать. Местные газеты обвинили меня в том, что я отвращаю от Кунстхалле традиционную аудиторию — но ведь при этом я привлекал туда новых людей! Количество друзей кунстхалле увеличилось с двухсот до шестисот, и еще тысяча студентов делала символический взнос в один швейцарский франк, чтобы обозначить свою причастность к Кунстхалле. Это же были 1960-е годы — изменился дух времени. Zeitgeist.
Какие выставки особенно повлияли на вас, когда вы только начинали курировать свои собственные проекты?
Ну, некоторые из тех, которые я видел в Берне и в Париже, я уже назвал.
Еще очень важной была выставка немецкого экспрессионизма 1953 года: «Немецкое искусство. Шедевры XX века» [Deutsche Kunśt, Meiśterwerke des 20. Jahrhunderts] в Художественном музее Люцерна и еще, конечно, «Истоки XX века» [Les sources du ХХе siecle, 1958] в Париже, ретроспектива Дюбюффе в Музее декоративных искусств [Musee des arcs decoratifs] в 1960 году и «Документа II» 1959 года, которую курировал ее основатель Арнольд Боде. Еще я много ходил по мастерским — Константина Бранкузи, Эрнста, Тингли, Роберта Мюллера, Бруно Мюллера, Даниэля Шперри, Дитера Рота. Самую замечательную выставку Пикассо я увидел в Милане в 1959 году. Именно встречи с художникам и и посещение хороших выставок стали для меня школой — формальной историей искусства я всегда интересовался гораздо меньше.
Если же говорить о сверстниках, то мне нравился Георг Шмидт, который до 1963 года был директором Художественного музея в Базеле. Он был совершенно помешан на качестве, умел отобрать работы для пополнения коллекции и уговорить партнера сделать музею какой-нибудь потрясающий подарок — например, коллекцию Ля Роше. Но при этом мне нравился и Виллем Сандберг, который до 1963 года возглавлял музей Стеделийк и был противоположностью Шмидта. Сандберг был одержим информативностью. Иногда он выставлял только часть диптиха или вовсе не выставлял хорошую работу только потому, что она уже была опубликована в каталоге. Для него идеи и информация значили больше, чем переживание объекта.
В каком-то смысле в своих выставках я сочетал оба подхода, добиваясь того, что мне нравится называть селективной информацией и/или информационной селекцией. Именно этим мне запомнилась работа в Берне. Придумывая состав выставки, я учитывал и позицию ценителя искусства, и распространителя чистой информации, и преобразовывал и то и другое.
Расскажите еще о Сандберге.
В Амстердаме в 1960-х годах все арт-сообщество встречалось в кафетерии Стеделийк под фреской Карела Аппеля. Сандберг был человеком очень открытым. Он приглашал художников курировать выставки — взять, например, «Дилаби», в которой участвовали Тингли, [Даниэль] Шперри, Роберт Раушенберг и Ники де Сен-Фаль; он с большим энтузиазмом встречал новые художественные направления — кинетическое искусство, калифорнийскую «световую скульптуру», новые синтетические материалы. После ухода Сандберга его место занял Эди де Вильде, и Стеделийк заполонила живопись. Де Вильде был гораздо консервативнее. Еще нужно упомянуть Робера Жирона, который руководил выставками в брюссельском Дворце изящных искусств [Palais des Beaux-Arts] с самого его основания, то есть с 1925 года, — это была образцовая институция. Каждый день в двенадцать кураторы, коллекционеры и художники встречались у него в кабинете, чтобы обменяться последними новостями про искусство. Когда я познакомился с Жироном, он управлял Дворцом уже сорок лет, и он сказал мне: «Вы слишком молоды; и вам ни за что не продержаться столько, сколько продержался я». Но из своих сверстников и из следующего поколения я единственный, кто еще работает. И я очень этому рад.
А что вы можете сказать о Йоханнесе Кладдерсе. бывшем директоре музея в Мёнхенгладбахе?
Кладдерс всегда был моим кумиром. Я познакомился с ним, когда он еще жил в Крефельде. Он не полагался на широту жеста. Он любил точность — но точность, основанную на интуиции. Первым его выставочным пространством была пустовавшая школа на Бисмаркштрассе. Это была замечательная эпоха. Джеймс Ли Биаре показал золотую иглу в витрине. Окна в сад были открыты, пели птицы — чистая поэзия. А Карл Андре сделал каталог в виде скатерти. Я пригласил Кладдерса принять участие в работе над «Документой V». Он сказал; «Хорошо, но я не возьмусь за раздел, а буду работать только с четырьмя художниками — Марселем Бротарсом, Йозефом Бойсом, Даниэлем Бюреном и Робером филиу — и интегрирую их в общую выставку». Такова была метода его работы. В то время все сражались за то, чтобы утвердить значимость собственной институции. В конце 1960-х искусство и культуру начали поддерживать политики, и стало небезразлично, к какой партии ты принадлежишь, особенно в Германии. Но Кладдерс утверждал свою значимость тихо, исключительно своей художественной деятельностью в музее Мёнхенгладбаха — а вот кунстхалле соседнего Дюссельдорфа решал те же задачи, заигрывая с властью.
Вы говорили, что каждый месяц ездили в Амстердам. Были еще какие то города, где вы бывали регулярно?