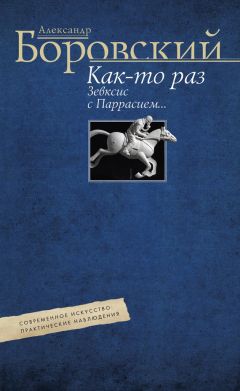В. Голубев, художник митьковской биографии, в настоящее время, на мой взгляд, вырос в одного из наиболее интересных новых русских рассказчиков. У него уникальный аппетит к повседневному. Советское повседневное было в центре интересов соц-арта, концептуализма и постконцептуализма, метафизического направления. Оно исследовалось как язык, как материал фрейдистско-этнографического анализа, как метафизическое инобытие, как сакрализованная мифопорождающая система. Для всех подобных подходов (даже игровой установки младоконцептуалистов «Ливингстон в Африке») общим являлась некая дистанция (исследование, «раскопки», деконструкция и пр.). Дистанцированность означает выключенность из реального течения жизни (остановка времени, замедление ритма, изменение фокусировки и пр.). Уникальность Голубева в том, что он как рыба в воде ощущает себя именно в течении городской жизни: ее водоворотах, стремнинах, мелях, разветвлении на рукава, вплоть до ручейков. Каждодневность как она есть, обычные городские типы (в традиции русской литературы их называли маленькими людьми) в бытовых ситуациях, в житейских коллизиях – традиционный жанризм позапрошлого века, замешанный на современных приемах визуализации. «Событие сюжета» у него дано в причинно-следственных связях. Оно предполагает подготовку («Как он дошел до жизни такой») и развитие за пределами изображенного (зрителю дается старое доброе право на «додумывание»). Остросоциальное, государственное не педалировано: судьбы его персонажей – в их собственных руках, они – воспользуюсь типично учительской формулировкой – «сами отвечают за свое поведение». Поведение это чисто житейского содержания: измены, разочарования, жизненная неустроенность, нелепость поступков и ситуаций. Голубев часто вводит короткие речения: «Сойти с ума не удалось», «Когда подумаешь, кого он предпочел!», «Домой не хочется», «Персона нон-грата». Это язык персонажей: их видение ситуации, их самооценка. Экфрасисом корпуса произведений Голубева мог бы стать монтаж из фрагментов прозы В. Токаревой, сценариев фильмов типа «Афоня» – вообще, произведений чувствительного плана, популярных еще в семидесятые. Но если тогда тема сочувствия была окрашена социально (беды маленьких людей зависели от вмешательства государства и бюрократии, это подразумевалось), то персонажи Голубева, как уже говорилось, – сами по себе. Художник – менее всего моралист, оценку поведения героев он уступает их собственной самооценке. Он не смеется над ними, хотя маленький человек у Голубева – часто несуразный, нелепый, смешной человек. Конечно, в этих проявлениях он ему сочувствует. Но, похоже, художник и побаивается своих персонажей: витальный напор, который они проявляют в простых житейских ситуациях, неожидан для него самого.
Петербургский художник Д. Шорин принадлежит к следующему поколению. И его городские персонажи принадлежат другому поколению, другому облику, другому психологическому и поведенческому рисунку. (Примерно тот же типаж показывают москвичи А. Виноградов и В. Дубоссарский в недавней серии «На районе».) При этом у них те же социальные корни, что и у голубевских, – это жители спальных районов. Интересно, пожалуй, только повествовательная живопись (в разных своих изводах) сохранила интерес к тому, что теоретик называет «смыслопорождающим отбором ситуаций, лиц, действий и свойств из неисчерпаемого элементов и качеств событий»[40]. И Шорин, очень внимательный к житейской фактуре, занимается этим отбором. Его персонажи разительно отличаются от обаятельных, витальных, расхлябанных неудачников Голубева. Это молодежь следующего поколения: невысокого пошиба, воспитанная на глянце и алчущая без особых к тому оснований гламура – в отношениях, стандартах стиля жизни и пр. Она показана в каких-то бесконечных выяснениях отношений, разочарованиях, томлениях. Собственно, гламур для бедных – сквозной сюжет многолетней серии Шорина (отдельное ее ответвление – воображаемое осуществление мечты, мифологизированные картины обретенного успеха). И одновременно – момент живописной реализации, несомненно, рефлексирующей эстетику редуцированного гламура. Если говорить о каждой конкретной вещи, то сюжет присутствует в скрытой форме – в прямых и мысленных монологах, в самом облике персонажей, во взаимоположении фигур в пространстве и пр. Это молчаливые сюжеты (вообще, это напоминает какой-нибудь «Дом-2» с выключенным звуком). «За стеклом» – по другую, внешнюю нашу сторону – и сам художник (в отличие, скажем, от Голубева, в общем-то сочувствующего своим расхристанным витальным неудачникам до готовности к прямому общению). Шорин – тоже не ощущает себя моралистом, нельзя сказать, что его установка – критическая. Но определенная отстраненность есть. Я бы назвал подход художника эстетико-антропологическим.
Николай Копейкин сегодня – ведущий русский художник нарративного плана.
В его генезисе – митьковство, которое, похоже, играло и некую компенсаторную роль: автор, с его филологическим и менеджерским образованиями, нуждался в митьковской терапии беззаботности, разгильдяйства и благодушия. «Москва – Петушки» В. Ерофеева, похоже, сыграли свою роль – как искус независимой, неогосударствленной жизни.
Копейкин вполне трезво оценивает себя как художника-рассказчика. Причем он рассказчик особенный. Он не столько высматривает «событие сюжета» в повседневной жизни, сколько его придумывает. Разумеется, почва подготовлена текущей жизнью, в том числе культурной и политической.
«Подготовлен» и типаж: гротесковая обрисовка ложится на адекватную, взращенную наличной реальностью натуру. Но, перефразируя В. Беньямина, можно сказать: подлинная картина настоящего проскальзывает мимо. Его можно удержать только в сюжете, вспыхнувшим на миг в момент его (настоящего) постижения. Копейкин смог отрефлексировать свою потребность (и способность) мгновенно реагировать на злободневное, увлекаться «текущим моментом». Но как найти собственную форму визуализации нарратива, сохраняя и литературную составляющую, и пародийную интонацию, при этом отодвигаясь от анекдота и карикатуры? Копейкин, как мне представляется, вполне органично выходит на некую иронико-эпическую форму, отсылающую к ироикомической поэме времен Сумарокова. Художник создает две такие эпические вещи – одна посвящена взаимоотношениям снеговиков и углевиков, другая – слонам в Петербурге. Обе вещи со всеми их внутренними сюжетами отличаются большой степенью сочиненности. Вместе с тем в них есть баланс наблюденности, изобразительной «ухваченности». В этом – поэтика Копейкина: он выдумщик и одновременно – изобразитель. Своих персонажей он выдумывает (или, исходя из наблюденных реалий, радикально трансформирует в гротесковом духе), добиваясь предельной убедительности воплощения (в точном смысле слова – придать плоть фантазмам и выдумкам). Так, в «слоновьем эпосе» он очень четко отработал отношения зооморфного и антропоморфного. У него дар вочеловечения: слоны или, скажем, снеговики действуют в предложенных художником обстоятельствах – сюжетах вполне «по-людски». Правда, и расчеловечивать он умеет: многие персонажи в старой басенной традиции, но во вполне современной форме визуализации, выказывают, как говорили в советских фельетонах, «звериное нутро»: запредельную, животную витальность, страхи, агрессию и пр. На «эпосе», с его сложным взаимодействием и взаимопроникновением отдельных сюжетов, Копейкин отработал важные для своего нарратива качества: ощущение присутствия некоего сказителя-изобразителя (рассказчика, распорядителя сюжетов, одновременно – посредника между изображенным и зрителями). Этот изобразитель не только выдумывает сюжеты. Он наделяет обыденное некоей сверхсилой (часто вплоть до иррационального и фантастического). Он дает действию драйв. От «эпоса» идет и ощущение целостности повествования, которое присутствует и в сюжетно независимых, «отдельных» картинах: создается уверенность, что они представляют некое сквозное действие, развивающееся за их пределами.
Петербургские рассказчики в целом демонстрируют понимание сюжета как прямого высказывания – различного рода отсылки и аллюзии направлены на расширение подтекста, а не на стратегии опосредования. В современном западном искусстве не так много художников, артикулирующих подобную установку: А. Катц, Э. Фишль. Особенно важен последний: он явно открыт литературным ассоциациям (причем литературе, пронизанной психоаналитическими мотивами, – Дж. Апдайку, например). Но все-таки в основе – прямое высказывание, то, что на языке нарратологии называется «событие сюжета».
О К. Звездочетове этого не скажешь. Как мне представляется, он разделяет установку «сюжет как стиль», описанную выше в связи с серией В. Комара и А. Меламида «Ностальгический соцреализм». Подобное сравнение может вызвать удивление: визуальность Звездочетова, условная, мозаичная, скорее рисуночная, нежели живописная, менее всего похожа на объективизирующую манеру «Ностальгического соцреализма». К тому же раешный, безобидный юмор художника (он недаром выставлялся с митьками) никак не рифмуется с многоплановой, «умышленной» иронией соцартистов. Звездочетов синтезирует различные стили сатирического или юмористического рисования (от позднего сатирического лубка до послевоенной советской карикатуры). Сразу скажем – идеологический заряд первоисточника его не интересует, да и сам он не спешит афишировать свою критическую позицию. Но сатирическая картинка должна быть сюжетной, причем с некоей оценкой, моралью. Зритель автоматически пытается считывать сюжет. Художник бросает манки – какие-то микроистории, столкновение разновременных эпизодов, смешение типажей. Но попытки найти «мораль», «фишку», искать причинноследственные связи теряются в общей картине тотального, как бы самостоятельно, помимо воли художника развивающегося веселья, комикования, смеховой волны. Сюжетом, таким образом, является сама навигация по визуальности, способной придать смеховой статус всему изображенному.