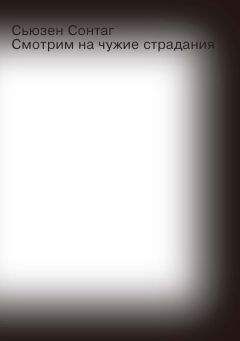Больше того: наличие единого фотографического стиля – взять хотя бы белый фон и плоское освещение в портретах Аведона или отчетливую гризайль в парижских уличных этюдах Атже – указывает на единство материала. И сюжет, по-видимому, играет главную роль в формировании зрительских предпочтений. Даже когда фотографии вырваны из практического контекста, где они были сделаны, и рассматриваются как произведения искусства, одну фотографию редко предпочитают другой по причине формального превосходства – просто зрителю больше по душе ее настроение, или он уважает намерение мастера, или заинтригован темой, или она вызывает у него ностальгию. Оценки фотографии с точки зрения формы не могут объяснить воздействия того, что было снято, а также почему удаленность во времени и культурная отдаленность от фотографии увеличивают наш к ней интерес.
И все же представляется логичным, что современные фотографические вкусы приобрели по большей части формалистическую направленность. Хотя естественный или наивный статус сюжета в фотографии более прочен, чем в других изобразительных искусствах, само многообразие ситуаций, в которых фотографии предстают перед зрителями, осложняет и в конце концов ослабляет первенствующую роль сюжета. Конфликт интересов между объективностью и субъективностью, между явленным и предполагаемым неразрешим. Хотя воздействие фотоснимка всегда будет зависеть от отношения к сюжету (от того, что это фотография чего-то), все претензии на то, чтобы фотография принадлежала к искусствам, должны упирать на субъективность видения. В эстетических оценках отдельной фотографии всегда кроется неопределенность, и это объясняет оборонительный характер и крайнюю переменчивость фотографических вкусов.
Недолгое время – скажем, со Стиглица и в период царствования Уэстона – казалось, что выработана твердая точка зрения для оценки фотографии: безупречное освещение, мастерство композиции, ясность сюжета, точность фокусировки, совершенство отпечатка. Но эта позиция, которую принято связывать с Уэстоном, – в сущности, технические критерии качества фотографии – обанкротилась. (О ее ограниченности свидетельствует хотя бы отзыв Уэстона о замечательном Атже – «слабый техник».) Какой взгляд пришел ей на смену? Гораздо более широкий, с критериями, которые переносят акцент с оценки отдельного снимка, рассматриваемого как законченный объект, на снимок, рассматриваемый как пример «фотографического видения». В том, что понимается под фотографическим видением, есть место и для произведений Уэстона, и для множества анонимных, скромных, с грубым освещением, плохо скомпонованных фотографий, прежде отвергавшимся именно из-за этого. Новая точка зрения освобождает фотографию как искусство от ограничительных норм технического совершенства – но так же и от красоты. Она открывает дорогу всеобъемлющему вкусу, когда ни один сюжет (или отсутствие сюжета), никакой технический прием (или отсутствие технического приема) не могут быть приговором фотоснимку.
Хотя в принципе любой сюжет является достойным поводом для того, чтобы быть увиденным фотографически, сложилось мнение, что фотографическое видение отчетливее всего проявляется на причудливых или тривиальных сюжетах. Сюжеты выбираются потому, что они скучны или банальны. Поскольку мы к ним равнодушны, на них лучше всего проявляется способность камеры «увидеть». Когда Ирвингу Пенну, известному своими красивыми фотографиями знаменитостей и пищи для журналов моды и рекламных агентств, устроили выставку в Музее современного искусства в 1975 году, там была только серия фотографий окурков, снятых крупным планом. По этому поводу директор отдела фотографий музея Джон Жарковски выразился так: «Можно предположить, что [Пенн] редко испытывал более чем поверхностный интерес к номинальным сюжетам своих снимков». А другого фотографа похвалил за то, сколько тот умеет «извлечь из сюжета» «глубоко банального». Прописка фотографии в музеях прочно ассоциируется теперь с этими красивыми модернистскими формулами: «номинальный сюжет» и «глубоко банальное». Но при таком подходе не только уменьшается роль сюжета, а еще и расшатывается связь фотоснимка с конкретным фотографом. Фотографический способ видения нельзя исчерпывающе проиллюстрировать множеством персональных фотовыставок и ретроспектив, устраиваемых музеями. Чтобы быть узаконенной как искусство, фотография должна культивировать представление о фотографе как об авторе и обо всех снимках, сделанных одним мастером, как о едином целом. Такая трактовка больше подходит, скажем, Ман Рэю, который распространил свои принципы и стиль и на фотографию, и на живопись, чем Стейхену, занимавшемуся абстракцией, портретами, рекламой потребительских товаров, фотографией для журналов моды и разведывательной аэрофотосъемкой (во время службы на обеих мировых войнах). Но значения, которые приобретает снимок, рассматриваемый как часть всего корпуса работ одного мастера, не особенно существенны, когда критерием является фотографическое зрение. Для последнего важнее новые значения, которыми наполняется любая фотография при сопоставлении – в идеальных антологиях, либо на стенах музея, либо в книгах – с работами других фотографов.
Такие антологии имеют целью воспитать фотографический вкус вообще, научить такому зрению, для которого все сюжеты равноценны. Когда Жарковски описывает заправочные станции, пустые гостиные и другие унылые объекты как «системы случайных фактов на службе воображения [фотографа]», он имеет в виду, что эти сюжеты идеальны для камеры. Якобы формальные, нейтральные критерии фотографического видения на самом деле решительно оценочны в отношении сюжета и стиля. Переоценка наивных и непродуманных фотографий XIX века, в частности, сделанных со скромной целью что-то зафиксировать, отчасти объясняется их жестким рисунком – педагогическим коррективом «пикториального» мягкого рисунка, который со времен Камерон и до Стиглица ассоциировался с претензиями фотографии на статус искусства. Однако жесткий рисунок вовсе не является обязательной нормой фотографического видения. Как только сочтут, что фотография очистилась от отживших отношений с искусством, от миловидности, вполне может вернуться вкус к пикториальной фотографии, к абстракции, к возвышенным сюжетам вместо окурков, заправочных станций и людских спин.
Язык, на котором обычно оценивают фотографии, чрезвычайно скуден. Иногда он паразитирует на лексиконе живописи: композиция, свет и т. д. А чаще это суждения самого расплывчатого характера, когда фотографии хвалят за то, что они тонкие, или интересные, или впечатляющие, или сложные, или простые, или – излюбленное – обманчиво простые.
Бедность этого языка не случайна: дело не в том, что отсутствует богатая традиция фотографической критики. Причина в самой фотографии, когда к ней подходят как к искусству. Фотография предлагает процесс воображения иной, чем живопись (по крайней мере в традиционном ее понимании), и апеллирует к другому вкусу. В самом деле, различие между хорошей фотографией и плохой совсем не такое, как между хорошей картиной и плохой. Эстетические оценки живописи основаны на критериях подлинности и мастерства – критериях, менее строгих в фотографии или вообще к ней не применимых. Позиция знатока живописи предполагает соотнесение конкретной картины с остальными произведениями художника в совокупности, с различными школами и иконографическими традициями, тогда как в фотографии совокупность работ фотографа необязательно обладает стилистическим единством, а его отношения с фотографическими школами имеют гораздо более поверхностный характер.
Один из критериев, общих для оценки живописи и фотографии, – новаторство. И ту и другую часто ценят за то, что утвердили новую формальную схему или произвели перемену в визуальном языке. Другой критерий, который может быть общим, – это ощутимость присутствия, аура, которую Вальтер Беньямин считал решающей характеристикой произведения искусства. Беньямин полагал, что у фотографии, технически воспроизводимого предмета, не может быть подлинной ауры. Можно возразить, однако, что сама ситуация, сегодня определяющая вкусы в фотографии – ее показ в музеях и галереях, – выявила то, что снимки все же обладают некоторыми чертами подлинника. И хотя никакая фотография не может считаться оригиналом в том смысле, в каком им является картина, есть большая качественная разница между тем, что можно назвать оригиналами – отпечатками, сделанными с негатива в то же время, когда был сделан снимок (то есть на том же этапе технической эволюции фотографии), и последующими поколениями отпечатков. (В большинстве люди знают выдающиеся фотографии по книгам, газетам, журналам и т. д., а это – фотографии фотографий; оригиналы, которые скорее всего можно увидеть только в музее или галерее, доставляют удовольствие, какого нельзя получить от репродукции.) Результат технического воспроизведения, говорит Беньямин, «может перенести подобие оригинала в ситуацию, для самого оригинала недоступную». Но если, допустим, о картине Джотто можно сказать, что она обладает аурой в музейной экспозиции, будучи вырвана из первоначального контекста и, подобно фотографии, «сделав движение навстречу публике» (хотя в строгом смысле, по Беньямину, она аурой не обладает), то с таким же успехом можно сказать, что обладает аурой фотография Атже, напечатанная им на бумаге, которая теперь не производится.