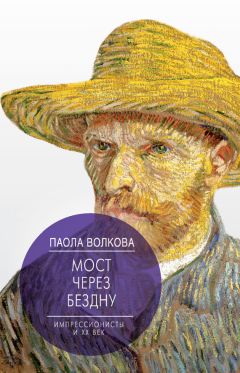Диего Веласкес. Менины. Автопортрет (деталь). 1656. Музей Прадо, Мадрид.
Надо сказать о том, что автопортрет – замечательный жанр живописи. Автопортрет никогда не бывает самоизображением, ну разве что уж у совсем какого-нибудь безумно влюбленного в себя человека, что совсем не соответствует понятию художника. Нет, автопортрет – это всегда то, что думает художник о том, кто он. Например, человек, который был очень связан с Веласкесом и во многом очень помог ему в живописи, это бельгийский художник Питер Пауль Рубенс. Он сыграл большую роль в живописной жизни Веласкеса, потому что он был с какой-то тайной миссией в Мадриде, и уже был очень знаменитым тогда. И он подсказал Веласкесу кое-какие вещи по части живописной техники. Рубенс никогда не изображал себя с кистью в руках, он всегда изображал себя только как шикарного вельможу. Мы видим его молодым вельможей, мы видим его уже сильно поседевшим, уставшим, с потухшим взором, но мы всегда видим вельможу. А Веласкес написал себя так, как он видел себя, а он видел себя только художником. Он родился художником для того, чтобы писать эти картины, чтобы нам их оставить, для нашей памяти. Хотя трудно сказать, оказывают ли на нас какое-то влияние те великие шедевры, которые нам оставляют поэты – живописцы и драматурги. Влияют ли они на нас? Может, если бы они на нас влияли, мы были бы несколько иными. Наверное, тот процент людей, на которых они оказывают свое благотворное влияние, очень низок. Но не в этом дело.
Рубенс. Автопортрет.
Альбрехт Дюрер. Автопортрет в 13 лет. 1484. Галерея Альбертина, Вена.
Вспомним о том, что представляет собой непрерывная череда автопортретов Дюрера, словно дневниковая запись: с того момента, как он изобразил себя мальчиком и написал «Это я сам нарисовал себя в зеркале в 1484 году, когда я был еще ребенком. Альбрехт Дюрер», и до того момента, как он нарисовал себя умирающим, как он показал, что умирает от болезни поджелудочной железы.
Автопортрет художника – это никогда не самоизображение, это разговор с собой о себе, это размышление художника о том, кто он есть. И вот мы видим на картине, которая называется «Менины» («Фрейлины»), большой автопортрет художника Диего Веласкеса. И рассказ его ведется для нас, стоящих перед ним, как будто мы его модели. Он хорошо понимал этот эффект. Кто он есть? Он художник. Он только художник. Он только кисть, он человек, стоящий перед мольбертом. Он живет в этой клетке своей мастерской.
Альбрехт Дюрер. Автопортрет. 1521. Бременский кунстхалле, Бремен.
Очень интересно, что Филипп IV вел себя по отношению к Веласкесу примерно так же, как Николай I по отношению к Пушкину. Он не желал выпускать его за границу. Почему они боялись выпускать их за границу – до сих пор не ясно. И Филипп IV никак не хотел выпускать Веласкеса за границу. Он всегда оставлял в заложниках его семью. Дважды бывал Веласкес в Италии, где ему очень хотелось бывать. Филиппу IV хотелось итальянских картин, и он понимал, что только Веласкес может купить те итальянские картины, которые нужно, и он их и купил. Но когда Веласкес написал портрет папы Иннокентия X (кстати, бывшая собственность нашего Эрмитажа), то уж он его отозвал преждевременно и никогда от себя не отпускал. Веласкес словно был прикован к его ноге на короткой цепи. Кстати, и должность он имел примерно такую, как Пушкин. Очень любопытная аналогия: у Пушкина была должность камер-юнкера, а Веласкес имел должность вроде спальничего. И денег он получал меньше личного парикмахера. Денег он вообще не должен был иметь, не мог брать в руки деньги, потому что он был идальго. Подарки – другое дело.
Итак, Веласкес был живописцем. И он сказал – я живописец, я только живописец, а вот это – мир, в котором я живу и который я пишу, потому что я придворный живописец. Вот я с удовольствием пишу эту девочку, эту прелестную маленькую девочку. Ах, как он прекрасно писал детей, как он любил детей, как он любил писать детей! И вот эта маленькая девочка – центральная в этой картине. Она центральная героиня его творчества. Он писал всегда карликов, мы это знаем, у него есть знаменитая галерея портретов карликов. Вот он и пишет Марию Барболу с ее свитой. Он писал придворных и похожих на цветы фрейлин – менин. Как они изумительно одеты, в этих платьях на больших юбках, которые назывались «вердугадо»! Как он пишет этот коралловый цвет и как он вообще пишет ткань!
Одна из фрейлин встала перед инфантой на колени и дает ей чашечку с водой (чашечка сделана из особой ароматической красной глины), потому что девочка сама себе не могла взять попить, ей должна была дать фрейлина. Инфанта даже не могла взять чашку, налить воды и выпить! И вот фрейлина дает ей эту воду, согласно ритуалу встав на колени. А те, кто были подлинными реальными властителями судьбы Веласкеса, гофмаршал двора или король и королева, оказались в его картине не более чем тенями зазеркалья.
Филипп – король испанский, принадлежавший к династии Габсбургов. Вы представьте себе, что он был властителем половины мира. Он был властителем Испании, испанских колоний в Европе, а самое главное, что он был властелином испанских колоний в Южной Америке. То есть это человек, который чувствовал неограниченность своей власти. Начиная с XVI века в Испании сложилась очень жесткая система отношений и очень жестко сложенного при этом ритуала, которого все должны были придерживаться. Такого ритуального двора, как испанский, Европа не знала никогда, ни один европейский двор не знал такого ритуала. Русский двор знал самодурство, но ритуала в России не было. Россия не переносит ритуала и придерживаться его не может, ей это надоедает через месяц. А вот в Испании было ритуально все. Ритуально движение, ритуальна одежда, ритуальна система отношений.
Нигде в Европе такого ритуала, как в Испании, не было, даже при дворе Людовика XIV, который был очень ритуален. Испанцы изобрели корсет. Носили корсеты мужчины и женщины, их туго затягивали. И они впервые ввели чулки. До испанской моды носили штаны типа лосин, как у итальянцев. А испанцы ввели корсет, к корсету крепились машинки с чулками, ввели отдельно надевающиеся штаны, короткие камзолы, очень короткие плащи. Итальянский плащ длинный, а испанский короткий – до локтя. Камзол обязательно был застегнут глухо до подбородка, и у мужчин, и у женщин. И еще белый плоеный воротник. Получалось, что они не могут согнуть спины. Они могут только так стоять. Но и это еще не все: и мужчины, и женщины на голове носили очень маленькие шапочки с пером. И они должны были балансировать головой, чтобы эта шапочка у них не упала. Таким образом, они были совершенно заточены в свой костюм. А в XVII веке к этому прибавилось еще одна деталь – вердугадо. Это абажур, на который надевалось платье, и в нем они не могли ни сесть, ни пройти – ни дети, ни взрослые.
То есть это был первый в европейской истории ритуальный социальный костюм, который подчеркивал надменность, отстраненность, высокомерие и одиночество. Они были очень несвободны. И еще эти жесткие панцири, которые были на них надеты, с шапочками, с юбками вердугадо, с этими высокими воротниками, когда они даже поздороваться не могли, они только делали знак ресницами. Они не имели права взять в руки деньги. Когда Веласкес писал Иннокентия X, тот ему деньги дать не мог за свой портрет, потому что это было неприлично: идальго деньги в руки не берут, за ними носят их кошелек.
Другое дело – юг Испании, где очень сильны были арабские влияния. И вот на юге Испании сложилась еще одна традиция, которая замечательно показана в испанской южной драматургии плаща и шпаги. У них перестук каблуков и веер в руках – это было то же самое, что азбука Морзе. А у мужчин это было движение плащом, шпагой и шляпа. Это был язык свободы, внутренний язык. Они могли говорить что угодно, но в этот момент каблуками, веером, плащом давать знак о чем-то совсем другом. Складывался двойной язык, эзопов язык, это был тоже язык сценический, язык движений и жеста.
Итак, Филипп был ритуальным испанским королем. Власть при нем принадлежала временщику. Временщика звали Оливарес.
Оливарес был фаворитом, это обычное дело при абсолютных монархах. Во Франции это были фаворитки, а в Испании при Филиппе IV это был Оливарес. Но этот человек ничем значительным не проявил себя как государственный деятель.
Нельзя сказать, что инквизиция особо свирепствовала при Филиппе IV. Какая же инквизиция, если все-таки издавался Сервантес, если издавались испанские драматурги, поэт Гонгора? И испанские короли очень любили театр. То есть было и то, и другое. С одной стороны, это был очень жестокий королевский, имперский, тоталитарный режим, очень регламентированный, и конечно, власть инквизиции была. А с другой стороны, это все-таки были более вегетарианские времена. Можно сказать, что инквизиция в конце XVIII – начале XIX века вела себя гораздо более люто, чем она вела себя в конце XVI – начале XVII века в Испании. Хотя не следует забывать, что в 1600 году был сожжен на костре Джордано Бруно.