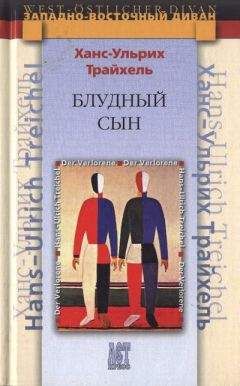Благодаря знакомству с Эдуардом Жаге – руководителем парижской группы Phases, который еще в 1961 году предложил мне стать ее членом, – в 1964-м мы смогли показать в музее ее большую выставку, которая после показа в Сан-Пауло отправилась в Рио-де-Жанейро и Белу-Оризонте (одним из следствий стало включение нескольких бразильских художников в это международное движение). Другая выдающаяся, на мой взгляд, выставка – персональная – была сделана в 1965 году. Русский живописец и музыкант Джефф Голышев (1898–1970), который в свое время входил в берлинский Клуб дадаистов, жил и продолжал анонимно работать в нашей стране; однажды он пришел к нам. Это было в 1965 году. Он пришел в музей со своей женой и рассказал историю своего бегства из гитлеровской Германии. В 1933 году нацисты разгромили его выставку в Берлине. После этого он решил исчезнуть с художественной сцены. И вот, более трех десятилетий спустя, уже почти полностью забытый, он все же решил вернуться. Мы приняли его очень радушно. Дома он показал нам серию картин, которую никому не показывал и над которой работал на протяжении нескольких лет, – во многом это были «воссоздания» (отсылавшие куничтоженным произведениям). И мы сделали его выставку. В Европе считали, что он уже давно умер. Рауль Усманн и прочие коллеги и бывшие друзья Полякова встретили его возвращение с радостью. MAC многое сделал для его «реабилитации» – в частности, мы разыскивали уцелевшие работы периода дада и группы November, хотя наши усилия увенчались очень скромным успехом. Полякова стали включать в крупнейшие ретроспективные выставки дада, которые тогда организовывались. Жаге сделал его членом группы Phases.
Некоторые выставки привозились в MAC из Европы, Японии и Латинской Америки. Другие были результатом обмена с Музеем современного искусства Нью-Йорка (МоМА) – например, выставка Йозе-фа Альберса, [Анри] Картье-Брессона и Брассайя. В 1970-х годах музей организовал целую серию концептуальных персональных и групповых выставок– парижской Grouped'Art Sociologique (Фред Форест, Жан-Поль Тено, Эрве Фишер), буэнос-айресского Центра коммуникации и искусств (Centra de Cominicación у Arte, CAY С) – его руководителем тогда был Хорхе Глусберг, – или, опять же, «Катастрофическое искусство Востока» (Catastrophe Art of the Orient), куратором которой был Мацудзава Ютака.
ХУО Но вы ведь работали и с молодыми бразильскими художниками?
Это было одним из моих любимых занятий, наряду с организацией ретроспективных выставок бразильского модернизма. С тех самых пор, как открылся MAC, мы делали ежегодные выставки, поначалу чередуя графику и гравюру (последняя в те годы переживала расцвет). В конце 1960-х музей учредил ежегодный смотр «Молодое современное искусство» (Jovem Arte Contemporänea), который впоследствии получил невероятное развитие. Страна переживала длительный период военной диктатуры, с 1968 года еще более ужесточившейся. Все эти факты хорошо известны: военный переворот, репрессии, пытки, цензура. Цензура распространилась на все культурные события, прессу, образование. Хотя и в меньшей степени, чем театр и кино, визуальные искусства тоже испытывали на себе ее давление. Картины и целые выставки конфисковывались, были случаи преследования художников, некоторых сажали в тюрьму. Репрессии не миновали и университет, но он оставался очагом сопротивления. Наши программы и выставки, посвященные экспериментальным направлениям, продолжались – хотя это и было связано с некоторым риском. Это было время, когда начинал стремительно распространяться концептуализм. Шестая выставка Молодого современного искусства (JAC) в 1972 году, по словам Иво Мескиты, была «очень провокативной». Она делалась внутри самого музея и имела процессуальный характер. В последующие годы, вслед за JAC, появились и другие выставки, прежде всего посвященные мэйл-арту, с большим числом бразильских и зарубежных участников. Позднее, в 1981-м, мы организовали подобную выставку в рамках Биеннале в Сан-Пауло.
ХУО Расскажите о выставках тех лет– это очень интересно.
JAC-1972 была свободной и концептуальной по своему характеру – в широком смысле этого слова: работы, показанные там, были эфемерны по своей природе, они целиком и полностью создавались в стенах музея, и мы были открыты к использованию любых материалов и техник. По идее, выставка была молодежной, но никаких возрастных ограничений не было, одна группа работала рядом с другой. Площади, предназначенные для временных экспозиций (около 1000 квадратных метров), были поделены на 84 разных по размеру и характеру секции, которые по жребию распределялись между зарегистрированными участниками (отдельными художниками или группами). Участники должны были представить письменный проект того, что они собираются делать в своей секции, и этими секциями можно было меняться. На протяжении двух недель – пока все это продолжалось – велась «хронограмма».
ХУО То есть пространства не были одинаковыми.
Квадратные, круглые, изогнутые… одни – между колоннами, другие – на верхних уровнях, третьи – вдоль фасадов с огромными окнами. У нас, например, участвовал Яннис Кунеллис, греческий представитель arte povera. Он предложил, чтобы все две недели в залах непрерывно звучал Vä, pensiero [31] – мы так и сделали. Два пианиста, сменяясь, играли Верди на возвышении рядом со входом. В музее, конечно, было шумно, потому что кругом шла работа, стучали молотки и т. п. Но музыку все равно было слышно довольно хорошо. Идея Кунеллиса была совершенно прозрачна. Но некоторые истолковали ее очень по-своему, потому что были не готовы принять всю эту мизансцену.
ИМ Очень интересный аспект этой выставки – это «work in progress»: сначала художники разбрелись по отсекам – по своим углам, – но потом, путем переговоров, смогли привести эти «жребии» в соответствие со своими нуждами. Если одному пространство не подходило, он менялся им с другим художником, которому тоже не подходила его секция, и так далее. На той выставке была замечательная рабочая атмосфера, включая общение с публикой, которая присутствовала на монтаже.
Эту идею подал Донато Феррари, художник итальянского происхождения, из Рима, но уже долгие годы живший в Бразилии. Он оставил живопись и несколько лет занимался только перформансами, инсталляциями и фильмами на Super-8.
ХУО Выходит, проект направлялся самими художниками?
Да. На протяжении нескольких месяцев над подготовкой JAG в музее работала целая команда. Перед открытием, в сентябре 1972 года, мы с Феррари отправились на конференцию CIMAM в Польшу; вообще-то там обсуждались взаимоотношения музеев модернистского искусства и художников. Мы рассказали о своем текущем проекте, показали диаграмму и рассказали про то, каким нам виделось его развитие. Коллеги из CIMAM отнеслись к нашей инициативе с интересом. Все это происходило в Кракове. Феррари произнес речь, которая была встречена с некоторым напряжением. Я помню основные направления, в которых тогда работали художники в музее Лодзя. Наша концепция была совсем другой.
ХУО Но если говорить о вас – вы сразу поняли преимущества сотрудничества с художниками?
Это было для нас обычной практикой с самого основания MAC. Не забывайте, что мы были университетским музеем и что художники, которые в университете преподавали, участвовали в разработке самых разных аспектов деятельности нашей молодой институции. JAC задумывался как важный фактор именно такого сближения. Выставка пользовалась успехом у посетителей, среди них было много художников, и они стали помогать участникам в их работе. Приходило много студентов. Некоторые сами добровольно приняли наши правила игры: так, они заняли пандус перед входом в музей и разместили там большую фотографию Гитлера, на которой он изображен перед мраморной статуей Паолины Боргезе в Риме. Вокруг они, конечно же, расставили свечи.
ХУО Выходит, на выставке была и политика?
Вся выставка в целом носила политический характер, нередко – за счет метафорических аллюзий к ограничениям свобод при военной диктатуре. У нас не было недостатка в очень остроумных, игровых проектах. Зритель перемещался от одной инсталляции к другой, дальше его ждал перформанс и т. п. Как раз в те годы на коллоквиумах СШАМ обсуждалась тема «музей как форум vs. музей как храм». Музейщики серьезно задумывались о том, как сделать музей более открытым, лучше интегрированным в общество. У меня остались очень приятные воспоминания от разговоров с Вернером Хофманном, Пьером Годибером и Ричардом Станиславски на таких коллоквиум ах.
ХУО Кто в 1960-х и 1970-х годах в Южной Америке были вашими коллегами? Кто тогда являлся наиболее значимыми кураторами в Чили, Венесуэле, Аргентине и Мексике?
Любой обмен между странами Латинской Америки тогда был проблематичен. Начать с того, что расстояния – огромные, а коммуникация была ненадежной. И потом, на протяжении долгих лет серьезным фактором оставались диктатуры. Даже сегодня Латинская Америка во многом остается континентом-архипелагом. Ноу нас все же были контакты с Центром искусств и коммуникации (Centro de Artey Communicación-CAYC) в Буэнос-Айресе, которым руководил Хорхе Глусберг; с Анхелем Каленбергом, директором Национального музея Уругвая; и с Элен Эскобедо в Мексике. Еще мы поддерживали отношения с Улисесом Каррионом – он был тоже из Мексики, но потом переехал в Амстердам и там создал Альтернативную международную систему доставки искусства почтой (Erratic Art Mail International System). В 1972 году, на встрече директоров латиноамериканских музеев, которая проходила в рамках конференции, организованной Центром межамериканских отношений в Нью-Йорке, мы предложили создать ассоциацию, которая бы нас всех объединила, но обстоятельства не слишком благоприятствовали появлению такого союза.