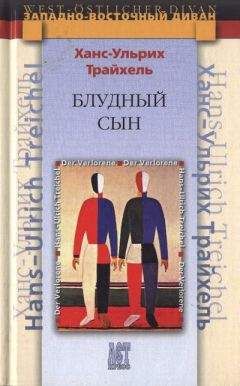Настоящее удовольствие.
Наслаждение. Ему, правда, нравилось мыслить в трехмерном пространстве, придумывать, как бы получше показать каждое произведение, а не «утопить» его в выставке. Думаю, еще одна вещь, которой я училась у своего отца, – равно как и у всех, кого я считаю своими учителями, – это умение получать бесконечное удовольствие от непосредственной работы с художниками. Когда отец пришел в МоМА, то он пришел туда не как специалист по современному искусству, а как человек, который должен был помочь им справиться с некоторыми задачами, потому что музей расширился и усложнился. Мой отец, если хотите, просто стал членом команды. И я научилась у него одинаково восторгаться и индейцем навахо, который отливает какую-нибудь штуку из серебра, и мексиканским игрушечником, который делает потрясающих птиц из тыквы, и современными художниками или скульпторами, с которыми мой отец ближе познакомился уже в МоМА, – но все это не означает, что отец ко всем подходил с одной меркой: он просто на всех смотрел с равным восторгом и уважением.
Ваш отец тесно общался с художниками, со многими у него были теплые отношения. Интересно, с кем из художников тогда познакомились вы. Ведь ваше взросление пришлось на те годы, когда МоМА больше всего походил на лабораторию – это же поразительно! С Дюшаном вы впервые повстречались тогда? Расскажите о вашей первой встрече – это очень интересно.
О нет. С Дюшаном я в первый раз встретилась в Филадельфии – и произошло это очень вовремя. Прижизниотца, когда он работал в МоМА, я действительно познакомилась с некоторыми художниками, но лишь мельком – например, с [Марком] Ротко: помню, он как-то сидел с отцом в его кабинете. Но ведь тогда я была еще совсем ребенком; у меня и в мыслях не было заняться историей искусства или чем-то подобным. Да, встреча с Ротко или с Луиз Невельсон произвела на меня сильное впечатление-но и только. По-настоящему я начала знакомиться с художниками позже, в возрасте лет двенадцати (а может, четырнадцати): тогда у меня уже начал появляться кураторский азарт. Ну, представьте: многие художники старшего поколения отца очень любили, рядом сидела девушка с той же фамилией – так что это все получалось как-то само собой.
А в самом начале своей собственной карьеры я познакомилась с [Александром] Калдером и, конечно, с Дюшаном. На самом деле с Дюшаном я встречалась всего однажды. Я приезжала к нему в Нью-Йорк, чтобы взять интервью, когда работала в Филадельфии. В Филадельфии я начала работать осенью 1967 года, а Дюшан умер летом 1968-го. Я была аспиранткой Института Курто, специализировалась на искусстве модернизма. Дюшан, конечно, входил в круг моих интересов, но не был для меня центральной фигурой. Но когда я приехала сюда и увидела эту потрясающую коллекцию, то сразу же поняла, каким фантастическим богатством обладает Филадельфия (многим это было уже понятно, но я была не из их числа) и какие тут для меня открываются возможности. Только приехав, я сразу захотела познакомиться с Дюшаном – это была одна из первых вещей, которые я захотела сделать. Но эта встреча была мне нужна для того, чтобы поговорить не о самом Дюшане (я даже представить себе не могла, как мало времени у меня оставалось, – никто не думает наперед), а об Аренсбергах – выдающихся коллекционерах, собрание которых находится здесь и которое на самом деле попало сюда благодаря Дюшану. Дюшан был разведчиком, задачей которого было найти для коллекции Аренсберга дом. Он объездил все Штаты, побывал в Чикаго, в других городах-и неутомимо искал для коллекции Аренсбергов самое лучшее место. И вот в 1950-х годах они передали коллекцию Филадельфии. В общем, я провела с Дюшаном и с его женой Тини несколько часов – и это было прекрасно, – а через полгода он умер.
В известном смысле мое настоящее знакомство с миром искусства состоялось, когда музей поручил мне, вместе с Уолтером Хоппсом, написать статью об Etant Donnćs – работе Дюшана, которая после его смерти была подарена музею Фондом «Кассандра». Музей решил, что было бы здорово сделать по этому поводу публикацию и что публикация должна быть самого высокого уровня. Тем летом у меня умер отец, но я, конечно, никак не связываю эти две смерти; это просто одна из тех вещей, которые по прошествии лет ты отмечаешь как своеобразное совпадение. Отец и Дюшан, конечно, присутствовали в моей жизни совершенно по-разному. Отец погиб в автокатастрофе, и это стало большой трагедией и для мамы, и для меня, и для множества людей, которые его любили, – но ему все же удалось сделать в своей жизни очень многое. При этом я никогда не говорила с ним о работе в музее – я была еще совсем новичком, я только начинала. Отца это все веселило и занимало, и он гордился тем, что я связала свою жизнь с музеями, хотя для него это стало полной неожиданностью; ничего такого ему и в голову не приходило. И он никогда не подталкивал меня к этому выбору; хотя вы, наверное, скажете, что я и так провела в музее всю свою жизнь. Что же касается Дюшана, то это была одна из счастливых случайностей, – то, что музей получил в дар эту потрясающую работу; то, что мне дали возможность по-настоящему глубоко поразмышлять и о ней, и обо всем дюшановском творчестве; и то, что мне довелось сотрудничать с Уолтером Хоппсом, с которым я раньше, конечно же, знакома не была. На самом деле именно из продолжительных разговоров с Уолтером Хоппсом, которые мы вели на квартире, где я жила с одним своим другом, я очень многое узнала не только о Дюшане, но и об искусстве модернизма и о современном искусстве вообще, потому что половина наших разговоров была посвящена Дюшану, а половина – много чему еще, всему, что тогда занимало или Хоппса, или меня. Он, например, мог спросить меня, что я думаю о том-то и том-то художнике – а я и имени такого не слышала. В общем, это были очень полезные беседы.
Если говорить об Etant Donnes– здесь интересно то, что работа попала в музей после смерти Дюшана. Когда вы с ним встречались, дарение еще держалось в секрете?
В строжайшем секрете! Я ни о чем даже не догадывалась.
Меня очень интересует эта секретность, потому что Билл Копли уж точно все знал. Брюс Науман всегда говорил, что чрезмерная «выставленность на показ» может оказаться для искусства врагом. По-моему, этот вопрос особенно важен сегодня, когда «вы ставлен и ость на показ» приобрела уже совсем чрезмерные масштабы. И сегодня идея секретности снова приобретает актуальность. В общем, меня очень интересует этот момент секретности и то, как секрет был раскрыт.
Ну, я даже не знаю, что вам сказать об этом секрете: я сама находилась в полном неведении. Когда я встречалась с Дюшаном, то ни о чем таком даже не подозревала.
И никто не подозревал.
Ну, да. Единственными, кто знал об этом, были Тин и Дюшан и, конечно, Билл Копли. И еще знали тогдашний директор музея Эван Тернер и председатель совета, потому что Дюшан – или Билл Копли, или они оба, я точно не знаю – обратился со своим предложением именно к ним и сделал это по-тихому: мол, «у Дюшана есть одна поздняя работа – его последняя работа, – и ему будет приятно, если она попадет в музей; готовы ли вы принять ее?» – «Да, разумеется». Вот и все! Не думаю, что о дарении знало больше четырех человек, а тем четверым не было никакого резона о нем рассказывать. Помню только, как директор музея и Тини Дюшан попросили меня вместе с "Уолтером Хоппсом заняться той публикацией, помочь с транспортировкой работы из Нью-Йорка и ее монтажом в музее. На самом деле за монтаж мы отвечали втроем: Пол Матисс – сын Тини Дюшан, – наш хранитель и я.
А транспортировка была сложная?
Очень простая.
Работа находилась в какой-нибудь секретной мастерской?
Просто в небольшой комнате в Нью-Йорке. Тогда это была не настоящая мастерская, а просто комната в каком-то деловом центре.
Выходит, до того как вы представили работу публике, ее видело всего три-четыре человека.
Да, так и было. Конечно, сейчас – на расстоянии – все видится именно так, как мы видим это сегодня. А тогда мне просто казалось важным все это сделать. И я, конечно, прекрасно осознавала, что по условиям дарения – то есть условиям, которые через фонд «Кассандра» поставил Билл Копли, – все это должно было пройти без лишнего шума. Нужно было просто разместить работу в музее: еще вчера ее не было, а сегодня она уже есть. Именно так все и вышло. Вчера ее не было-а сегодня она появилась.
И фонд не хотел делать никакого открытия?
Нет.
Но вы подготовили этот замечательный выпуск журнала.
Это был выпуск музейного «Бюллетеня», посвященный Дюшану и Etant Donnes; работа над ним доставляла мне огромное удовольствие. Ничего сложного в этой истории не было. Это только так кажется, что сложно, а в действительности – совсем нет. Мы должны были просто перевезти работу из Нью-Йорка в Филадельфию и разместить ее в музее – вместе с Полом Матиссом. Вообще-то тогда мы немного изменили экспозицию в галерее. Там всегда выставлялось много дюшановских работ из коллекции Аренсбергов, но мы сгруппировали их вокруг «Большого стекла». Так что теперь это настоящая Галерея Дюшана, место паломничества для многих художников – и вскоре я познакомилась там и с Джаспером Джонсом, и с Джоном Кейджем, и, конечно же, с Мерсом Каннингемом. Для меня все они составляют какое-то невероятное трио, хотя Джаспер и моложе двух остальных. После того лета, когда состоялось «явление» Etant Donnćs, в 1969 году, я уехала в Чикаго и два года работала с Джимом Спейером – и это было прекрасное время. Потом, в 1971 году, я вернулась в Филадельфию вместе со своим мужем; здесь еще не было такой должности, как куратор искусства XX века, но я стала именно им. В Филадельфии я провела десять очень насыщенных лет: помогала формировать коллекцию, готовила огромную нью-йоркскую ретроспективу Дюшана – вместе с Кинастоном Макшайном. Это было прекрасное время, потому что тогда я бывала и в Филадельфии, и в Нью-Йорке, и в Чикаго, и в музеях этих трех городов, по воле случая (хотя чистых случайностей не бывает), приобрела совершенно бесценный опыт.