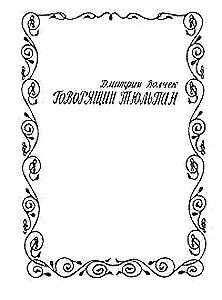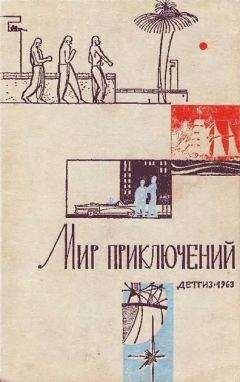В протесте – желание уйти от неправды, сделать свою жизнь не такой, какой она была в том образцово-показательном детстве, где мать требовала беспрекословного послушания, соблюдения строго режима дня (в постель ровно в девять!), где считалось, что дочь-семиклассница может носить только чулки-резинки с детскими застежками, где Галя имела право играть в классики (и только в классики!) лишь на виду у матери, где косички были единственно приемлемой прической, где за всем этим порядком стоял непорядок в семье, непорядок, тщательно скрываемый и постоянно ощущаемый, и дочь, боясь показать, что тайное для нее стало явным, участвовала в этой игре.
Ее трехлетний бунт, завершившийся получением аттестата зрелости экстерном и экзаменами в вуз (желание в 16 лет стать студенткой и начать самостоятельную жизнь объясняется не только любовью к искусству!), навсегда породил ненависть к притворству, лицемерию, лжи, веру, что любой, даже «нас возвышающий обман», не может быть дороже истины.
В 1965 году, спустя два-три месяца после развода, Волчек сыграет в целиком «современниковском» фильме «Строится мост» роль жены своего недавнего мужа – сценарий рождался долго и по замыслу его авторов семейные связи многих актеров должны были найти отражение на экране, – сыграла свое воспоминание, представление о любящей супруге, о преданности единственному «суженому-ряженому».
Восхищение талантом Евстигнеева, влюбленность в его актерскую индивидуальность сохранились у нее навсегда. Удивительно качество этой женщины: при всем ее максимализме в человеческих отношениях, она умеет переступить через свои приязни и неприязни, если дело касается искусства, творчества.
К сорокалетию артиста, уже только товарища по труппе, Волчек написала нечто вроде приветствия, своеобразного дифирамба, в котором воспоминала: «0н не вписывался, или точнее – с трудом вписывался в нашу студенческую толпу, по тогдашним временам довольно ярко и небрежно одетую, с определенной лексикой людей, уже на первых курсах ощущавших себя прямыми продолжателями если не самого Станиславского, то уж, по крайней мере, его ближайших учеников.
Галина Волчек с Евгением Евстигнеевым в спектакле «Голый король». 1960-е гг. «Свою личную жизнь я сформулировала так: у меня было два замужества, несколько романов и одно заблуждение». (Галина Волчек)
Среди нас вдруг встал на лестничной площадке до дикости странный для нас парень, в старательно сшитом, как бы на вырост, лиловом бостоновом костюме, застегнутом на все пуговицы, с видневшейся из-под пиджачных бортов трикотажной рубахой на молнии, которую Женя называл «бобочкой», с завязанным широким узлом крепдешиновым галстуком в цвет костюма (не хуже, чем у людей). Стоял он очень прямо, в третьей балетной позиции, руки висели по бокам, одна чуть согнута, мизинец левой руки с ногтем был оттопырен, из-под брюк виднелись желтые модельные ботинки с узором из дырочек. Голова была без пышной шевелюры, на правой руке висел плащ, именуемый «мантель». Время от времени Женя кидал в урну свой согнутый «беломор» и, видя проходящую мимо студентку, прочищал глотку, как делают певцы, и говорил:
– Розочка, здрасте! – Он произносил именно «здрасте», нажимая на букву «с» и пропуская все остальные, а всех женщин называл «Розочка». В его представлении, именно так должен был стоять, говорить и действовать светский лев, интеллигент и будущий столичный артист…
Прошло очень немного времени, и я увидела впервые Евстигнеева на сцене в отрывке из «Волков и овец». Он играл Лыняева. Если вспомнить свое первоощущение – это неожиданность, почти шок. Неожиданность в сдержанной и удивительной пластике, в поразительной внутренней интеллигентности и глубине, в отсутствии суетливости и старательности, так свойственной студентам, в четкости рисунка и филигранности деталей. Поразившее меня мастерство – мастерство не от полученных уроков и прочитанных театральных учебников. Оно было как бы врожденным, как талант, как гены, как данность. Я думаю, что феномен Евстигнеева состоит именно в том, что неожиданность есть не форма, придуманная или даже рождаемая им, а суть его таланта».
Я видел состояние Волчек, когда много лет спустя Евгений Александрович, уже актер МХАТа, пришел в «Современник» – возобновлялись «Большевики» и Евстигнеев принял приглашение выступить в одной из своих лучших ролей – Луначарского. Он появился в зале минут за 15 до начала репетиции, очень взволнованный, проверил с Галиной мизансцены и работал блестяще, не только ни разу не запнувшись в огромном, давно не игранном тексте (большинство его партнеров оказалось далеко не столь готовыми к возобновлению), но и заставляя воспринимать знакомые сцены так, будто они слышались и виделись впервые. Волчек восхищалась, смеялась и вместе со всеми аплодировала.
«Теперь уже, когда прошло двадцать лет моей работы в театре, – писала она в том же дифирамбе-воспоминании, – я понимаю, что самое невероятное ощущение ты – актер или ты – режиссер испытываешь, когда сидишь за своим режиссерским столиком и актер, с которым ты только что работал над какой-то сценой, вдруг заставляет тебя забыть все и на секунду превращает тебя в нормального зрителя, вызывая смех или слезы. Будучи режиссером, я не часто испытывала подобное, но именно Евстигнеев, репетируя Сатина, заставил меня забыть о моей профессии. Выслушав все, что я думала по поводу сцены, когда Сатин, получив пятак от Пепла, должен произвести свои знаменитые слова: «Работа, а ты сделай так, чтобы работа»… и т. д., он схватил вдруг сапожную щетку и, произнося текст, стал щегольски чистить свои рваные парусиновые ботинки, поплевывая на щетку и смакуя при этом каждое слово.
Ход был неожидан и прекрасен».
Но и «На дне», и «Большевики» были много позже. Им предшествовал спектакль, окончательно утвердивший Волчек (не формально – это произошло раньше, а по существу) в ранге режиссера, – «Обыкновенная история».
Есть очевидная закономерность в том, что режиссер, которому предстояло не на один год определить стиль «Современника», возглавить его, сформировался в самом театре.
«Обыкновенная история» явилась первым преображением «Современника», «Пять вечеров» и «Двое на качелях» – шагами, это преображение подготовившими.
Руководитель, «спецпрактикумами» объединившего группу студентов-журналистов МГУ, пожелавших заниматься театральной критикой, как-то рассказал:
– Мы решили все вместе посмотреть спектакль «Обыкновенная история» в «Современнике» и затем подготовить устную рецензию. Рецензии не получилось.
Было не до нее: каждому так много хотелось сказать. И разговор был уже не только о театральном явлении. Предметом наших споров стал круг исторических, философских, нравственных, эстетических проблем. В моих молодых друзьях что-то изменилось.
Счастье, когда спектакль, написанный по роману Гончарова, вызывает такой эффект.
Но почему же именно «Обыкновенная история»? Ведь до этого «Современник» ни разу не обращался к русской классике?
И тезис о «связи с жизнью» был в свое время опошлен его спекулятивным толкованием. Но связь была. Связь особая. По ней, как по проводам, режиссер получает сигналы, что заставляют его принимать нежданно-негаданное решение.
В часы неурядиц, когда пришлось столкнуться с корыстью, отступничеством, жестокостью, обнаружить в, казалось, хорошо знакомых людях жажду что-то урвать за счет другого, мелькнула мысль:
– Боже, да ведь это же настоящее дно! – и моментально – надо перечитать «На дне»! Кинулась к соседке – был уже час ночи, но та не удивилась и протянула томик Горького. Жадно читала пьесу, удивляясь ее вечной новизне, и к утру созрело твердое решение!
– Ставлю «На дне»!
И раз уж мы вспомнили «На дне», приведем еще один пример связи с жизнью. Знаменитый монолог Сатина о гордом человеке должен был, по замыслу Волчек, идти под смех обитателей ночлежки, а завершиться всеобщим хохотом, какой способен вызвать лучший номер клоуна. Начинает Сатин, как это и положено хорошим комикам, серьезно – он и не думал никого смешить, но потом, вдруг вспомнив, кому он говорит свои прекрасные слова, втягивается в общую атмосферу безудержного смеха и хохочет со всеми вместе, заражая своим весельем каждого, кто еще не включился в это всеобщее ржанье над человеком.
– Мне виделось это решение верным, – рассказывает Волчек, – хотя в его необычности было нечто, беспокоившее меня. Вроде бы, из монолога исчезла надоевшая всем напыщенность и дидактичность, вроде бы, реакция ночлежников была естественной и логичной, и само прозрение Сатина во время монолога представлялось интересным, но вместе с тем, что-то внутри свербило: нет ли здесь потерь? Не слишком ли простым является наше прочтение «от противного»?