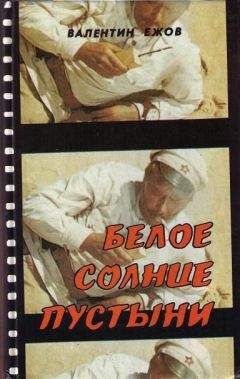Профессор Зубов, его ассистент по актерскому мастерству Дмитриев и технический секретарь приемной комиссии Колесова согласовали детали последнего заседания, на котором абитуриенты, успешно выдержавшие вступительный конкурс, должны были быть объявлены студентами «Щепки», когда в деканат ворвался расстроенный и разгневанный Василий Семенович Сидорин. Он тряс почти ничем не заполненным листом бумаги.
– Вот, полюбуйтесь, что натворил наш Луспекаев! – обратился он к Константину Александровичу. – Это, видите ли, и есть его сочинение на заданную тему. За чистую страницу я не могу поставить даже единицу.
Константин Александрович принял лист, нахмурился и всмотрелся в то, что было написано на листе. В верхнем правом углу – «П. Луспекаев». Чуть ниже, посередине: «В жизни всегда есть место подвигу» (зачеркнуто). Еще ниже и тоже посередине – «Лишние люди в произведениях русских писателей XIX века» – зачеркнуто. Дальше была девственно-неиспорченная белизна.
Константин Александрович вдруг поинтересовался, а верит ли сам Василий Семенович в то, что, например, могут быть в каком бы то ни было веке «лишние люди»?..
Василий Семенович ожидал не этого. Он растерялся еще заметней и, заморгав чаще, чем обычно, возразил, что не он выбирает темы для вступительных экзаменов, а Министерство образования, вернее – его методисты.
Константин Александрович внимательно посмотрел на него, перевел взгляд на Алю, спрятал «сочинение» абитуриента Луспекаева в ящик письменного стола и сказал:
– Изобретите, что угодно, дорогой Василий Семенович, я все равно его возьму. Это вопрос решенный и обжалованию не подлежит.
В архиве училища, состоящего из студенческих работ, хранилась папка, которую посвященные в ее тайну называли «палочкой-выручалочкой». В этой папке покоилось образцовое сочинение по литературе, написанное одной из абитуриенток за несколько лет до войны. Кроме старательно разработанной темы, сочинение отличалось безукоризненным внешним исполнением – ровные, будто по линеечке строчки, каллиграфический почерк. Студентку отчислили в конце первого года за выявившуюся профнепригодность – исключительный, редчайший случай в истории «Щепки», а сочинение осталось, чтобы служить хорошему делу – выручать талантливых в лицедействе, но не сильных в сочинительстве абитуриентов и абитуриенток. В случаях, подобных тому, участниками и свидетелями которого стали профессор Зубов, его ассистент Дмитриев, студентка-выпускница Колесова и преподаватель литературы Сидорин, последний шел в архив, брал «палочку-выручалочку» и предлагал абитуриенту, справившемуся с конкурсными экзаменами по мастерству, но не справившемуся с сочинением своими силами, переписать сочинение, написанное в незапамятные времена.
Так нужно было сделать и в этот раз. Но, как на грех, заведующая архивом заболела, а ключ имелся только у нее. Точнее, ключ имелся и у завхоза – запасной, – но завхоз находился за пределами территории, подведомственной «Щепки». Раздосадованный Василий Семенович отважился на шаг, на который в ином случае ни за что бы не посягнул: вернувшись в аудиторию, где в полном одиночестве томился, ожидая решения своей судьбы, абитуриент Луспекаев, он выдернул из стопки свежеиспеченных сочинений первое попавшееся и бросил его перед абитуриентом: – Перепишите!
Не прочитав сочинение, Павел переписал его, не проверив, сдал Василию Семеновичу и вышел, получив на то разрешение.
Дальнейшее похоже на анекдот или, скорее, на легенду. Василий Семенович уселся проверять сочинения. Начал он, само собой разумеется, с того, которое предложил переписать Луспекаеву. Вскоре он схватился за голову: сочинение было ужасно и не заслуживало положительной оценки. Но делать нечего. Корчась от того, что делает, Василий Семенович поставил «тройку». Затем той же оценки удостоил «сочинение» абитуриента Луспекаева. Это означало, что он стал студентом «Щепки».
Легенды, впрочем, складывались вокруг имени Павла Борисовича на протяжении всех лет его учебы в училище и долго жили, передаваясь из поколения в поколение, после завершения учебы. Они будут появляться везде, где бы он ни жил и ни работал: в Тбилиси, в Киеве, в Петербурге. Он постоянно оказывался в центре событий – малых и больших, пустяковых и значительных, случайных и закономерных, часто возникавших не без инициативы с его стороны. Несмотря на тяжелый недуг, сведший его, в конце концов, в могилу, а, может быть, благодаря ему, Павел Борисович жил полнокровной жизнью, особенно в творческом отношении. Таковы уж были особенности его характера и его личности. Легенды тоже имеют свои особенности. Они роятся вокруг Личности – во-первых. И имеют под собой, как правило, вполне реальное основание – во-вторых. Вокруг ничтожеств и на пустом месте они не возникают. Хотя… Хотя и вокруг далеко не всех знаменитых они появляются. Где-то в 1980 году мне довелось неоднократно беседовать с Семеном Арановичем, работавшим над многосерийным фильмом «Рафферти». В фильме снимался актер Олег Борисов, творчеством которого я давно и пристально интересовался. Однажды Семен, усмехаясь так, как только он один умел усмехаться: как бы и сочувствуя, и осуждая одновременно, рассказал о том, как сетовал Борисов по поводу того, что вот, мол, он народный артист, лауреат многочисленных премий, а не может вспомнить о себе ни одной байки. «Наверно, – грустно добавил он, – надо быть таким, каким был Пашка Луспекаев – все, какие могут быть, хвори, частые мордобои, б….я и – основное условие – короткая жизнь».
Телеграмму о своем зачислении Павел все-таки отправил – родителям в Луганск. Он представлял, как будут они обрадованы. Серафима Абрамовна тут же оповестит всех родных, знакомых и соседей. Разговоров-то будет!.. Отец, Борис Власьевич, сдержанный, немногословный, станет лишь улыбаться. Тратиться на телеграмму в театр не имело смысла – его, Павла, сослуживцы, теперь уже бывшие, наверняка отбыли на запланированные гастроли в Таганрог.
Отправил телеграмму и Коля Троянов, тоже зачисленный в училище. После этого друзья отправились на Рижский вокзал к знакомому армянину Вазгену – отметить столь значительное событие в своей жизни.
В порыве откровенности Вазген признался, что, когда он живет в Ереване, ему нравятся две вещи: пить коньяк на берегу Раздана и любоваться горой Арарат, а когда в Москве – три: пить коньяк, любоваться русскими женщинами и петь русские народные песни. Коньяку у него было – залейся. С платформы цистерны, где он просиживал от зари до зари, можно было наблюдать лишь за женщинами, ремонтирующими железнодорожные пути. Русских народных песен Вазген знал великое множество, но… из каждой по одной строчке – первой. Похоже было, что он бормотал их даже во сне…
«Общага» на Трифоновке приютила не только студентов «Щепки», но и «Щуки», Школы-студии МХАТ. Щукинцы именовали щепкинцев «щепками» или, когда хотели подчеркнуть их «кондовость» за пристрастие к традициям, – «отщепенцами». «Щепки» не оставались в долгу, именуя соперников «щурятами»…
Общежитие располагалось за огромным зданием Рижского вокзала и занимало два приземистых здания барачного типа, вплотную подступавших к железнодорожным путям. Аборигены утверждали, что раньше в них располагались склады, в которых хранили до распределения по магазинам мешки с мукой, крупами и сахаром. Потом в стенах прорубили окна, настлали пол второго этажа, сколотили лестницы и крылечки…
В комнатах, плохо освещенных и скудно меблированных, ютились по пять-семь человек. Студенты из национальных образований, например, якуты, буряты или таджики, жили, как правило, обособленно. Закончив училище, они вместе же покидали Москву и возвращались в Якутск или в Улан-Удэ, чтобы влиться в коллективы местных театров.
Женатые, не имеющие средств снять жилье у москвичей, отгораживали самый глухой угол комнаты платяным шкафом и одеялом. Соседи по комнате с сочувствием и пониманием относились к этому.
Летом в постройках было душно, а зимой в углах и под подоконниками образовывались ледяные сталактиты. Под полом первого этажа визжали крысы. Круглосуточно легкие постройки сотрясались от движения тяжелых маневровых локомотивов и вздрагивали от отрывистых басовитых гудков. Но имелось и одно неоспоримое преимущество у обитателей этой «общаги» перед обитателями других студенческих «общаг» Москвы – на дверях регулярно появлялись объявленьица, накорябанные от руки на клочке серой хозяйственной бумаги: разгрузка муки. Или: разгрузка арбузов… Или: разгрузка помидоров… И т. п… Это означало, что у студентов «Щепки», «Щуки», Школы-студии МХАТ появилась возможность подработать…
В таких условиях набирались сил и вдохновения будущие народные и заслуженные артисты, лауреаты Государственных и Ленинских премий, за такую-то «отеческую заботу» от них постоянно требовали «горячей благодарности…».