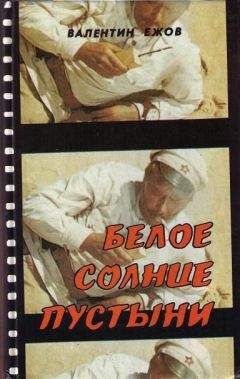Уникальное, но, к сожалению, слишком короткое свидетельство о том, как Луспекаев «вживался» в образ Ноздрева, оставил Александр Белинский.
«Однажды он мне сказал:
– Слушай, а Ноздрев человек, безумно трогательный.
– Да, это человек, который считает себя порядочным, и, когда убеждается, что Чичиков непорядочный, он обижается.
– Приведи мне пример, – попросил Луспекаев.
– Ну вот, когда Чичиков отказался играть в шашки. Ноздрев говорит: «Значит, ты не будешь играть со мной в шашки? Так ты подлец». Он потрясен непорядочностью Чичикова. Он забыл, что сам только что снял две чужие шашки с доски, что они лежат у него в кармане.
На следующий день мы начали репетировать. Горбачев, который играл Чичикова, сказал:
– Я не буду играть с тобой в шашки.
Ноздрев – Луспекаев ответил:
– Так ты не будешь играть со мной в шашки? – и у него задрожала нижняя губа.
– Нет, не буду.
– Так ты подлец.
И заплакал.
…Органичной в устах Луспекаева становилась каждая, даже самая сложная по лексике гоголевская фраза».
Рассказ Александра Белинского дополняет, к счастью, рассказ Юрия Владимировича Толубеева, игравшего, как мы помним, в спектакле «Мертвые души» Собакевича: «Его Ноздрев – истинно гоголевский. Все, что Гоголь написал о Ноздреве, Луспекаев претворил в жизнь. Я видел в этой роли прекрасных актеров – И. М. Москвина, Б. Н. Ливанова. Луспекаев пошел своим путем, играл по-своему, очень талантливо и непосредственно, внося в исполнение какую-то неожиданную личную ноту. В его Ноздреве все до мельчайших деталей было оправданно. «Как мы покутили», – говорит он, разглядывая в самоваре огромный синяк под левым глазом, – и сразу становилась ясно, как они покутили.
Луспекаев использовал в этой роли разнообразные комедийные краски – от сдержанного юмора до заразительного смеха. И мы часто смеялись на репетициях.
Но иногда в его Ноздреве проскальзывала и гоголевская грустная интонация, и тогда мы внимательнее присматривались к нему. О чем бы ни рассказывал его Ноздрев, Луспекаев все больше увлекался и сам начинал верить в то, о чем говорил.
Его Ноздрев был искренне убежден в своей правоте, даже плутуя в игре в шашки. И потому считал себя глубоко уязвленным и обиженным, когда Чичиков не верил ему и обвинял его в жульничестве.
Луспекаев все делал с упоением, все больше загораясь и заражая своей убежденностью окружающих».
Очень тонкое наблюдение оставил нам об игре Луспекаева в роли Ноздрева писатель и драматург Александр Володин: «Представления об этом гоголевском персонаже сложилось у нас прочно со школьных лет. Луспекаев поколебал эти представления. Перед нами был человек, жаждущий дружбы, готовый принять и полюбить всякого, кто способен ответить на эту жажду дружбы. Неискренность, недоверчивость Чичикова обижает Ноздрева глубоко. «Я думал было прежде, что ты хоть сколько-нибудь порядочный человек», – говорит, он с горьким удивлением. Однако азарт буйной натуры сильнее обиды. Он одержим детской, ничем не прикрытой потребностью обменять свое – уже надоевшее, постылое – на соблазнительное, необыкновенно привлекательное, чем обладает другой. И новое разочарование – Чичиков оказался хитер и скуп. Ноздрев подавил и эту обиду. Предлагает сыграть хотя бы в шашки. Азарт игры и хулиганского жульничества бушует в нем… Делается страшно и горько видеть, какие уродливые очертания может придать жизнь любым свойствам человеческой души.
Казалось, что может быть полнокровней и причудливей этой фигуры, запечатленной Гоголем на страницах книги? Образ, созданный Луспекаевым, сдается мне, еще полнокровней и причудливей. Иначе – много ли смысла повторять творения гения в живых картинах».
Перечитайте только что прочитанное, и вы убедитесь: и Мавр Пясецкий, и Кирилл Лавров, и Олег Басилашвили, и Александр Белинский, и Юрий Толубеев, и Александр Володин, начав с размышлений об исполнении Луспекаевым того или иного персонажа, постепенно, сами того не замечая, перестают различать, кто есть кто: Бонар становится Луспекаевым, а Луспекаев Бонаром. То же и с Ноздревым. В контексте этого совершенно естественным выглядит несколько ошеломляющее заключение, к которому приходит Георгий Александрович Товстоногов: «Для него жить в условных предлагаемых обстоятельствах было легче, чем в подлинной жизни, как это ни звучит парадоксально. В условных обстоятельствах сцены жизнь его была более вдохновенна, более жизнерадостна. Им двигала радость осуществления, радость физического приобщения к персонажу. И вела его интуиция».
«Умри, Денис, лучше не скажешь!» Скрупулезное изучение и усвоение авторских текстов на всех стадиях работы над ролями, активные беспрерывные поиски верных решений на репетициях, настойчивое творческое взаимодействие с партнерами, неустанное стремление быть на сцене тем, кого исполняешь… – какой, казалось бы, долгий путь! Между тем вот что пишет Юрий Владимирович Толубеев: «Некоторые актеры подолгу вынашивают образ, постепенно нащупывают характер персонажа. Луспекаев сразу «брал быка за рога», напоминая мне в этом отношении Николая Константиновича Симонова».
Еще неожиданней выглядит утверждение Товстоногова: «По Станиславскому путь к образу лежит от сознательного к подсознательному. Это процесс сложный, иногда чрезвычайно длительный. У Луспекаева он был сведен к минимуму, интуиция помогала артисту сводить рациональный период овладения ролью почти на нет. Огромная сила воображения помогала Павлу Луспекаеву уже с первых репетиций приблизиться к любой задаче. Переход от покоя к самому высокому ритму был неуловим».
Еще «круче» об этой особенности Павла Борисовича отозвался Владимир Мотыль: «Любому актеру, в том числе хорошему, для взлета необходим разбег, «нужна взлетная полоса». Луспекаев преодолевал земное притяжение подобно ракете. Команда – и уже разгорается его темперамент, и уже он отделился от земли и пошел вертикально вверх, в космос подсознания…»
Словно сговорившись, оба режиссера говорят о подсознательном. Но его основа – воображение и интуиция, что не преминул заметить Товстоногов. Интуиция – это от Бога. А воображение предполагает образованность, постоянный тренаж…
Будет, однако, глубоко ошибочным, если у читателей сложится представление, будто у Павла Борисовича все получалось с ходу, будто ему удавалось установить правильные отношения с персонажем быстро и легко, будто он работал по принципу: «пришел, увидел, победил». Отнюдь. Муки творчества не обошли стороной и его. А кого из истинных художников они обошли?..
В 1953 году в Тбилиси Леонид Викторович Варпаховский решил поставить пьесу «Чайка». В труппе Русского драматического театра имени А.С. Грибоедова не нашлось исполнителя на роль писателя Тригорина – одного из ключевых персонажей прославленной чеховской пьесы.
После долгих колебаний и сомнений режиссер отважился предложить эту роль Луспекаеву, хотя, на первый взгляд, он не очень-то подходил и по возрасту – ему было двадцать шесть, а Тригорину за сорок, и по внешним данным – Тригорин, что говорится, мужчина не крупный, а Павел выглядел амбалом. Павел выбор Варпаховского тоже считал сомнительным.
«В процессе репетиционной работы, – вспоминал Леонид Викторович, – Павел очень волновался и постоянно твердил:
– Ну какой же из меня может получиться Тригорин?..»
Но это было в начале его театральной карьеры, тогда, повторимся, когда ему шел двадцать седьмой год.
Так же он вел себя, когда ему шел тридцать третий год. Роза Сирота свидетельствует: «Первая репетиция «Варваров»… Рядом со мной сидит Луспекаев: тяжелые отрывистые вздохи, шепот: «Я боюсь». И действительно, что бы он ни делал, что бы ни репетировал, никогда не было у него профессиональной уверенности, всегда – путь в незнаемое, страстное желание ухватить сердцевину истинного действия».
«А начинал он работу над Ноздревым тяжело, – сообщал Александр Белинский. – Он боялся сравнения с Ливановым, который произвел на Луспекаева в мхатовском спектакле огромное впечатление. Боялся обилия текста. Больше всего боялся сложности гоголевской лексики».
Но профессиональная робость во всех трех случаях, в общем-то, легко объяснима и оправданна.
Вспомним, с каким автором и персонажем какой его пьесы молодой Луспекаев вступил в творческое взаимодействие в первом случае: с великим Чеховым, с Тригориным из великой «Чайки» – как тут было не оробеть?..
Неуверенность во втором случае усугублялась тем, что кроме именитого автора и одного из самых трудных его персонажей Егора Черкуна из весьма сложной пьесы Луспекаев, проводя первую репетицию в БДТ, где только что начал работать, перебравшись из Киева в Питер, оказался под обстрелом придирчивых испытующих взглядов корифеев театра, слава которого гремела уже по всей стране, – Полицемайко, Казико, Грановской, Стржельчика, Трофимова, Лебедева, Ольхиной и других… – поневоле оробеешь перед таким созвездием.