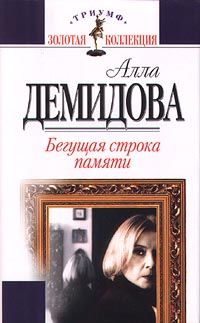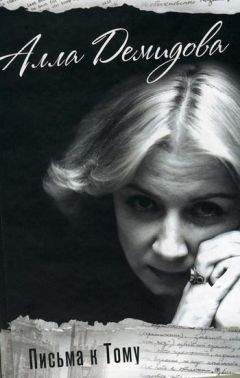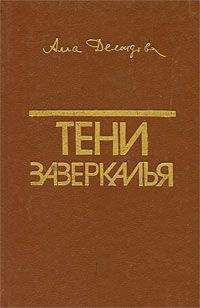«Я не люблю „застольный“ период. Работа за столом придумана Станиславским, и ее практикуют во всем мире. За столом создается глобальный образ актера – это хорошо, я не отрицаю смысла этой работы, но уверен, что могу обойтись без этого. Существует мнение, что актер бескультурен, необразован, поэтому с ним надо работать за столом. Станиславский боролся против клише на сцене. Работа за столом ставила задачу разбить эти клише, нужно было преодолеть актерское бескультурие и незнание (так как театр всегда был бескультурен). Я не хочу умалять теории Станиславского, но на практике можно работать над актером вместе с актером. Надо исходить из самого факта присутствия на сцене. Актер на сцене – и для меня (сознательно или бессознательно) он уже в работе. Напрасный труд делать из актера интеллектуала. Стыдно учить актера истории, например: „Вы что, не знаете, что была Тридцатилетняя война, и вы хотите играть мамашу Кураж?..“ Настоящие актеры приобретают культуру в процессе работы. Считается, что драматург и режиссер изначально являются носителями этой культуры только потому, что приносят проект работы. Актеры же, по определению, занимаются трудом, который ничего не имеет общего с интеллектуальностью. Одни интеллектуальны, другие нет, но это неважно, их профессия в другом. Надо не бояться сказать, даже если обвинят в реакционности, что между интеллектуалом и артистом существует большая разница. Опасно относиться к актерам как к интеллектуалам, но так же опасно говорить, что актеры бескультурны. Именно против этого восставали Станиславский, Брехт и другие „левые“ театральные гении».
«Для меня совершенно очевидно, что не существует связи между театроведом и актером и между музыковедом и музыкантом. Хотя и актер, и музыкант может быть „ведом“. Быть образованным, умным не мешает актеру, но эта культура будет мешать, если она не питает саму его работу. Безусловно, работа актера – это умственная работа, но не интеллектуальная. В процессе выбора между одним или другим жестом отражается знание истории, политики и т. д. Актер сам должен выбрать путь – и в этом заключается его умственная работа. Пойти направо или налево – это уже выбор, роль режиссера – быть внимательным к этому процессу. Каждый раз делается выбор, и каждый раз в результате этого выбора история театра переделывается вновь».
«В консерватории в этом году я начал с того, с чего начинаю каждый год, – беру какую-нибудь пьесу, и мы делаем ее от начала до конца. „Три сестры“, „Вишневый сад“, „Триумф любви“… В этом году я взял „Мамашу Кураж“. Сами студенты распределяют роли, или я их назначаю, но это все случайно, это неважно. Мы начинаем сначала, не обходя никакие трудности в маленьких сценах, которые обычно опускают в школе. Начинаем. Я импровизирую – делаю ошибки, потом их исправляю. Сегодня утром, например, мы сделали три страницы. И в следующий раз мы их проиграем, но, может быть, сменим исполнителей. К концу года каждый из студентов проигрывает почти все роли пьесы. Пьеса поставлена, однако ее нельзя увидеть. Ее можно увидеть только в воспоминаниях участников.
Я иногда объясняю, почему делаю так или иначе. Поэтому учеба происходит уже при анализе пьесы (например, не изучают Мольера, но по „Тартюфу“ изучается весь Мольер).
В процессе обучения мы ломаем все то, что только что сделали. И мне это нравится. В этом – эфемерность театра. И я люблю театр за это. В любом случае все остается в коллективной памяти. Нам же достается удовольствие от того, что мы создаем эту иллюзию жизни».
2000 год
28 января
Вечером зашел Анатолий Васильев. Рассказывал про строительство своего театра, которое хотят закончить к Театральной олимпиаде 2001 года. Говорил об административных заботах и как эти заботы убивают в нем художника. Прочитала ему цитаты из книги Витеза. Он посмеялся схожести. Хотя они абсолютно разные.
В начале 70-х годов прошлого столетия (как странно писать «прошлого столетия») Алексей Николаевич Арбузов организовал Студию молодых драматургов. Для того времени это было заметное явление, и мы, молодые актеры, часто туда наведывались. Там были Кучкина, Морозов, Райхельгауз, Анатолий Васильев. Они все уже были с дипломами. Васильев, например, учился до этого в ГИТИСе на курсе Кнебель и Попова, поставил там арбузовские «Сказки старого Арбата». В Студии на Мытной улице в подвале был маленький театрик. Он, правда, вскоре сгорел, и студийцы стали разбредаться по театрам.
В 1977 году А.А. Попов был назначен главным режиссером театра Станиславского. Он пригласил в свой театр Морозова, Райхельгауза и Васильева.
Васильев вскоре там сделал «Первый вариант Вассы Железновой» с необычной Никищихиной в главной роли. Спектакль посмотрела вся театральная Москва. Райхельгауз должен был ставить пьесу молодого драматурга Славкина «Взрослая дочь молодого человека», но потом постановку передали Васильеву. Премьера состоялась в апреле 1979 года.
Спектакль получился прекрасным! Мы все бегали его смотреть и вместо приветствия пели друг другу «Чаттанугу-Чу-чу».
Там на сцене были так называемые «сценические пустоты»: долгие паузы. Без слов. Просто резали салат. Но оторвать взор от сцены было невозможно. Филозов, Савченко, Гребенщиков, Виторган. Как это было прекрасно! Они сломали стереотипы восприятия сцены. С одной стороны, они были абсолютно естественны – мальчики, девочки московских компаний, а с другой – в них было такое внутреннее напряжение, что их образы и весь спектакль впечатались в мою память. Быстрая речь и лагуны молчания – блестяще!
Пожалуй, самое трудное в театре – «держать паузу». Именно «держать». Это ощущение похоже на телекинез, когда якобы силой воли или напряжением какой-то другой энергии в воздухе зависает предмет. Точно такое же энергетическое напряжение требуется от актера, чтобы пауза зависала.
Рассказывают, что когда Михаил Чехов играл Гамлета, он в середине одного монолога неожиданно умолкал и зависала огромная пауза. Зал напряженно ждал. Когда Чехова спросили, о чем он в это время думал, он сказал, что ни о чем, просто разглядывал гвоздь в полу. Не знаю, правду он про себя сказал или выдумал, чтобы отвязаться от досужих расспросов, но даже если это так, то, видимо, на этом гвозде была такая сильная концентрация актерской энергии и воли, что сам по себе гвоздь ничего не значил.
Вот эти «зоны молчания» были в спектакле Анатолия Васильева «Взрослая дочь молодого человека». После бурных диалогов, которых не помню, наступала пауза – актеры делали салат. Причем интересно было смотреть за тем, как они его делают, то есть за чисто физическим действием, но чем дольше они молчали, тем интереснее было нам, зрителям, входить в зону напряжения, которая уплотнялась почти физически от продолжительности паузы. Актеры не просто молчали, они молчали о том же, о чем тогда молчали мы, потому что все слова были уже сказаны. Жизнь персонажей на сцене и наша были адекватны. А нашу жизнь и нас самих мы тогда научились понимать без слов. Это был, конечно, сознательный режиссерский расчет, но воспринимался он тогда как новый язык театральных выразительных средств, как новое театральное открытие.
«Откуда этот гениальный режиссер?» – спрашивали мы друг друга. Оказывается, он из Ростова-на-Дону, окончил там университет (химический факультет), в Москве живет в гостинице «Минск» напротив театра и работает вместе с художником Игорем Поповым, который впоследствии оформил все васильевские спектакли. Мастерская у Попова была во дворе Библиотеки им. Ленина, и я, конечно, впоследствии там побывала не раз.
Когда Гребенщиков заболел и был в больнице три месяца с подозрением на туберкулез, спектакль «Взрослая дочь…» не играли, он ушел из репертуара. За это время главным режиссером театра был назначен сын Товстоногова. И когда Васильев, после возвращения Гребенщикова, попросил время для восстановления спектакля, сцену ему не дали, и он ушел из театра. Любимов пригласил его на «Таганку», некоторые актеры потянулись за ним, и он решил возобновить вариант «Вассы». Так на «Таганке» образовалась «пятая колонна». Они келейно существовали на малой сцене, васильевских актеров почти не занимали в любимовских спектаклях.
Новый вариант «Вассы» мне понравился меньше, но, надо сказать, я к тому времени прочитала пьесу – очень плохая. Будем говорить – трудная! Но какие-то детали того спектакля я тоже помню до сих пор. Прекрасно играл Филозов. Как он сладострастно облизывал ложечку с вареньем! Деталь, но это как раз и остается в памяти.
Васильев и здесь, как и во «Взрослой дочери…», использовал кинематографический монтаж сцен, какие-то натуральные детали, как, например, в первом спектакле поражала настоящая газовая плита, на которой жарили яичницу.
Они долго репетировали «Серсо», у Васильева появились новые актеры – Петренко, Андрейченко с улыбкой как глобус. Наш Щербаков там кого-то заменял, и мы все ему завидовали.