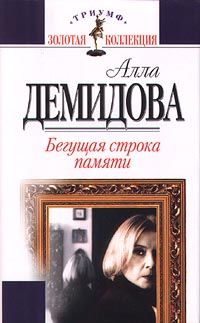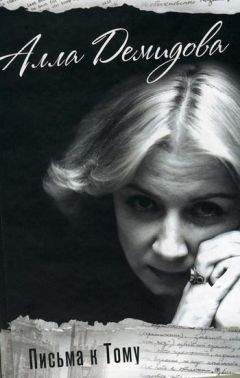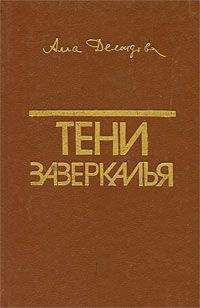17 января
«Вишневый сад». Перед спектаклем мы все вышли. Я – очень нервно: речь об Эфросе. После спектакля у Дупака – Жукова, Полицеймако, Золотухин и я. О худсовете. Золотухин – председатель, чтобы не подсунули другого. Все ужасно! Докатились.
19 января
В театре собрание. Я не пошла. Выбрали худсовет. Председатель – Дупак. Заместители – Глаголин и Золотухин.
27 января
Пресс-конференция в театре о гастролях во Франции и положении дел. На вопрос о возвращении Любимова пришлось отвечать мне. Потом скучная инструкция: что можно, чего нельзя.
1 февраля
Гастроли в Париже до 17-го.
18 февраля
В «Литгазете» статья В. Розова «Мои тревоги».
23 февраля
Ответ-письмо от коллектива Театра на Таганке.
3 марта
Собрание коллектива. Губенко прошел единогласно.
9 марта
Официальное представление труппе Губенко как художественного руководителя. Его тронная речь; пафосно-официальная и не по существу.
…Эфрос мне иногда снится. А однажды приснился так явно, что я даже сон запомнила. Во сне я говорила ему: «Знаете, Анатолий Васильевич, вы напрасно порвали с „Бронной“». А он: «Там невозможно было жить, там у меня не было друзей». Я: «Но все равно, это – ваш театр. И даже если вы не могли работать с теми, кто вас предал, вы бы начали работать с другими, но на этой площадке, она – ваша. Там бы вы оставались в собственных стенах, и ваш энергетический заряд многих бы притянул. Эту пуповину нельзя было рвать…» Вот такой у меня состоялся с ним разговор…
Еще при жизни Эфроса был юбилей Павла Александровича Маркова. Мне позвонила Таня Шах-Азизова и сказала, что в Доме ученых будет вечер Маркова, только Марков сам не хочет присутствовать на сцене, а хочет, чтобы в концерте показали отрывки спектаклей, о которых он писал последнее время, и один из них – «Вишневый сад» Эфроса.
Однако «Вишневый сад» нерасторжим на сцены, он весь – одним накатом. Кроме того, на фоне белых стен Дома ученых, но без белых костюмов, надо играть иначе – более объемно, более резко. И все же Таня меня уговорила.
Я выбрала сцену с Петей Трофимовым, позвонила Золотухину – он откликнулся. Подумали: не в белых ли костюмах? – но это выглядело бы странно на голой сцене. А я тогда носила длинные юбки и много бус. Эфрос говорил: «Вы, Алла, как новогодняя елка – сверкаете и звените…»
И вот я как лежала на диване в длинной юбке а-ля хиппи, так и пошла на вечер. Собственно, и костюм Раневской такой же, только в белом цвете: все развевается, непонятно, где начало, где конец этих тряпок.
Прихожу. Как всегда, опаздываю – вечер уже начался. Слышу знакомую мелодию, подхожу к кулисам и вижу, что показывают кусок из «Вишневого сада» с Книппер-Чеховой, а запись, очевидно, конца сороковых, потому что Книппер очень старая. И как раз – сцена с Петей Трофимовым. Играют медленно-медленно, и если наша сцена длится пять-шесть минут, то они треть ее играют минут десять. И я подумала: «Ну, мы в порядке. На этом фоне мы, конечно, выиграем». Правда, потом, когда камера пошла за окно, к расцветающим вишневым деревцам и зазвучал знаменитый вальс, я поняла: видимо, была какая-то особая атмосфера… Закончилось. Гром аплодисментов, просто шквал, как бывает в Парке культуры, когда там молодежь. Я посмотрела в зал: сидят старенькие академики в черных шапочках и их жены с брошечками на груди. Но аплодируют так, как в юности не аплодировали, и плачут с кружевными платочками у глаз. Тогда я сказала себе: «Алла, подумай! И сконцентрируйся…»
Поскольку вечер продолжался, а Золотухина еще не было, я пошла за кулисы. В Доме ученых две гримерные. Открыла одну дверь: «старики» в меховых боа, в вечерних платьях, в смокингах и во фраках – Кторов, Степанова, Зуева, Козловский, Рейзен – о чем-то беседуют светскими, поставленными голосами. Я тут же закрыла эту дверь, потому что своим видом никак туда не вписывалась, и вообще они для меня были слишком великими, я не осмелилась бы даже сказать «здравствуйте». Открыла другую дверь – там среднее поколение. Тоже в черных костюмах, но уже в других.
…Мы действительно никогда так не играли – так по-живому, так концентрированно, так нервно. Мы нашу сцену выпалили за три минуты, просто выбросили, как плевок. И мы ушли под звук собственных шагов – не было ни одного хлопка…
Когда мы играли, мой внутренний режиссер говорил, что играем неплохо. Для себя. Но мы провалились, а отсутствие контакта со зрителем абсолютно зачеркивает внутреннее ощущение. И когда в театре назначили «Вишневый сад», я сказалась больной – я не могла это играть. Потом поговорила с Эфросом, и он очень разумно мне объяснил: «Алла, вот представьте себе: в консерватории играют знакомую классическую музыку, а потом на три минуты выходят „Битлз“. Представляете, какое они бы вызвали раздражение! И наоборот – попробовал бы Рихтер сыграть на джазовом фестивале…» Это меня как-то успокоило, и я продолжала играть «Вишневый сад». В Доме ученых я не появлялась много-много лет. Потом, кажется через год после смерти Эфроса, был вечер его памяти. Вечер проводили в Доме ученых. И я всю эту историю рассказала зрителям. Когда я уходила за кулисы, одевалась, садилась в машину – все еще слышались аплодисменты, хотя публика была, конечно, другая…
Театр, конечно, – рисунки на песке. Волна – время все стирает. Но остается память, остались и прекрасные книжки самого Эфроса, остался изумительный фильм «В четверг и больше никогда», остались и еще будут писаться воспоминания об истинном интеллигенте и гениальном режиссере Анатолии Васильевиче Эфросе.
Письмо к N.N.
…Вы очень интересно написали о трансформации интеллигенции за последнее время. Но мне кажется, что интеллигенция, если, как Вы пишете, за этим понимать мыслящего, образованного человека, всегда была конформистична.
Для меня интеллигент – это человек, для которого в первую очередь существуют моральные законы. Если они существуют, то человек не меняется – независимо от времени. А если для него эти законы никогда не существовали, значит, он никогда не был интеллигентом, а только рядился в эту маску. Поэтому вопрос можно поставить так: «Изменилась ли маска интеллигенции?» Да, изменилась. И не в лучшую сторону.
Художник всегда стоит в оппозиции к существующим рамкам. Потому что цель художника – раздвигать эти рамки. Рамки привычного, рамки штампа, рамки творческие, социальные – словом, какие угодно.
Авангардные идеи никогда не воспринимаются массой. Эту схему можно представить в виде треугольника. Масса – где-то в основании треугольника, а пик – всегда художник. И пока масса дорастет в сознании до этого пика, появится другой пик – выше. Кстати, эта схема придумана не мной, а Кандинским.
…Вы ставите интеллигенцию перед дилеммой «молчать или кричать» в отношениях с властью. Но опять-таки под интеллигенцией подразумеваете только слой образованных людей.
Что же касается молчания, то Андрей Тарковский в фильме «Андрей Рублев» нашел очень точную форму выражения этой проблемы. Гениальный художник живет в страшное время, когда кругом кровь, насилие, агрессия, и он дает себе обет молчания, невмешательства. Потому как если вмешиваться в политику – не надо быть художником. Но, став молчальником, он не может работать, творить именно потому, что рядом течет кровь.
Вмешиваться или не вмешиваться, каждый решает сам. Я в политику никогда не вмешивалась. Но есть какие-то внутренние принципы, согласно которым я принимаю для себя то или иное решение.
Это касается, кстати, и «Таганки». Я всегда была немножко в стороне от всего, что раньше происходило в театре, и даже была в некоторой, может быть, внутренней оппозиции. Мне что-то там всегда не нравилось. Считала, что язык «таганской» формы – публицистически открытого разговора со зрителем – исчерпал себя к концу семидесятых годов. Надо было находить новые театральные формы, ну и так далее. Но Вы же знаете, что, когда встал вопрос раздела «Таганки», я приняла, естественно, сторону Любимова, который создал этот театр. Я не могла не вмешаться.
Все эти аргументы, что Любимов большую часть времени проводит за границей, – досужие разговоры! Очень многие художники, став известными, проводят на Западе отнюдь не мало времени.
Запад в этом смысле очень чует талант, в отличие от нас. Так вышло, что семья Любимова там живет. Тем не менее он очень много времени проводит здесь, за последнее время на Таганке состоялись две очень серьезные премьеры – «Электра» и «Доктор Живаго».
Скандал в «Таганке» я считаю самым некрасивым событием в истории театра. Мейерхольда тоже, кстати, закрывали изнутри, там тоже была группа недовольных актеров во главе с Царевым и Яншиным, которые писали статьи в газеты и письма «наверх». И в конце концов, «идя навстречу трудящимся», театр закрыли, а Мастера расстреляли… В творческих коллективах всегда много недовольных. Другое дело – кто пользуется этим недовольством: власть или люди, которые хотят употребить его в своих интересах.