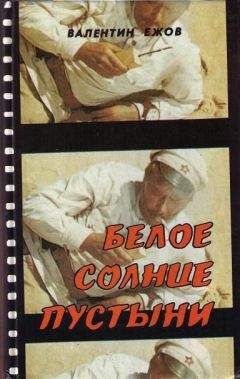Руководство питерского горсовета, убежденное общественной молвой, что в лице Павла Борисовича БДТ преподнес «подарок городу», не могло, согласно правилам хорошего тона, которым в Северной Пальмире всегда придавали серьезное значение, не ответить адекватно. В результате оно отдарило Павла Борисовича (а также и других актеров, например, Олега Валериановича Басилашвили), ключами от отдельной квартиры на Торжковской улице. Появилась, наконец-то, причина обзавестись собственной мебелью. Казенная мебель общежитий – убогие тумбочки, панцирные койки и громоздкие шифоньеры, – так же как и сомнительная роскошь гримуборных осточертели до оскомины. Нужен был дом, где бы все, к чему ни дотронься, было своим. Нужен был свой уголок больному Павлу Борисовичу и, конечно, быстро подраставшей Ларке. О себе Инна Александровна, как всегда, не догадалась подумать.
Квартира даже по нынешним рыночным временам оказалась просторной и удобной. Какие хлопоты могут сравниться с радостными хлопотами по устройству собственного гнезда?..
А вот с получением звания вышла осечка. Роль умного, сложного Черкуна, по мнению московского начальства «от культуры», была не той ролью, за исполнение которой можно дать звание. А вот роль примитивного, полоумного Нагульнова оказалась той , и в 1966 году Павел Борисович был произведен в звание заслуженного артиста РСФСР, и оно осталось единственным его званием. Это позволило Михаилу Козакову после сетования, что «о Луспекаеве не слишком много писали, во всяком случае, не столько и не так, как заслуживал его мощный талант», сделать грустный, бесконечно повторяющийся вывод: «Да ведь и умер-то он не в тех актерских рангах и чинах, которые ему полагались».
«Ранги и чины», как видим, присваивались не актерам, а персонажам, ими сыгранным. Актер, удачно сыгравший Ленина, – а сыграть неудачно было практически невозможно, ибо сформировался набор качеств, якобы присущих Ильичу, как-то: простота и доступность, революционные смелость и принципиальность, любовь к человеку труда и непримиримая ненависть к эксплуататорам и тому подобное; и способы внешнего выражения этих качеств: зоркий прищур, заразительный смех, засовывание рук в карманы брюк (когда общался с оппонентами) или за борта сюртука (когда общался с заединщиками) и т. д. – смело мог претендовать на внеочередное присвоение высшего актерского отличия – звания народного артиста СССР и даже на Ленинскую премию. И претендовали, и получали – нередко те актеры, которым Всевышний при их рождении уделил не слишком много внимания…
Между тем неугомонный, снедаемый неутолимой жаждой новых и новых сценических свершений Георгий Александрович Товстоногов затеял сразу две постановки: «Иркутскую историю» по пьесе Алексея Арбузова и «Гибель эскадры» по пьесе Александра Корнейчука. С творчеством первого драматурга Павел Борисович соприкоснулся впервые. С творческими потугами второго ему доводилось уже иметь дело в Тбилиси, когда он сыграл роль Мартына Кандыбы в «Калиновой роще». На сей раз ему предстояло сыграть роль военного моряка Гайдая, активного участника революционной смуты на Черноморском военном флоте, приведшей его к бесславной гибели. Ну что ж – дело знакомое. Павел Борисович вспомнил, как на репетициях студенческого спектакля «За тех, кто в море» по пьесе Бориса Лавренева бился под присмотром Зуба и Мити над тем, чтобы его персонаж Боровский выглядел настоящей «морской косточкой». Пойдут в дело и заготовки наработанные, но по тем или иным причинам не использованные в роли Алексея в «Оптимистической трагедии» Всеволода Вишневского, поставленной в Тбилисском русском драматическом театре имени А. С. «Грибоедова. Пригодится и опыт работы над ролью Бакланова во «Втором дыхании». Алексей и Гайдай, правда, моряки дореволюционного флота, а Бакланов красного, но менталитет-то у них один – славянский. И у каждого мощный, широкий характер… Сыщется и еще что-нибудь в «личных кладовых», если помести по сусекам…
Давно угасли разговоры о том, Большого ли драматического театра артист Павел Луспекаев? А как могло быть иначе после того, как сам Товстоногов, великий Гога, во всеуслышание назвал его «подарком городу»?.. Без прежней робости, уверенно входил Павел Борисович в знаменитое здание на Фонтанке. Было даже слегка досадно, что на репетициях никто, как случалось прежде, уже не пошучивал: «Помни, Паша, помни! Это должен помнить каждый!»
Более того: с молчаливого согласия большинства творческого состава театра он вошел в так называемую «Золотую дюжину», сложившуюся из артистов, для которых не существовало ничего невозможного на сцене. Это были асы сцены. Они все умели и все могли.
«Золотая дюжина» была подобрана, выпестована и ревниво оберегалась самим Товстоноговым. Ему нужен был не разовый, от случая к случаю, успех, а стабильные – от спектакля к спектаклю. И он своего добился. «Золотая дюжина», по меткому выражению Зинаиды Максимовны Шарко, неусыпно и зорко наблюдавшей за состоянием дел в театре, «держала в зубах репертуар». Если в другие театры зрители шли посмотреть на игру одного, двух, много трех актеров, то в Большой драматический частенько не меньше десяти. Спектакли с участием корифеев становились событиями, затянувшимися на месяцы или годы, и обеспечивали полные кассовые сборы. На такие, например, спектакли, как «Лиса и виноград», в котором блистал гениальный Полицеймако, или «Ханума», в котором сверкало созвездие из Стржельчика, Трофимова, Макаровой, Кузнецова и других, билеты было невозможно достать через много месяцев после их премьер. Ежедневно – полный аншлаг!..
Актеры «Золотой дюжины» были артистами по призванию, лицедеями по определению. Ничего иного они делать не умели, да и не хотели. И не представляли даже, как это можно хотеть чего-то другого, уметь что-то иное. Актерство являлось для них тем единственным, для чего они родились, для чего Всевышний призвал их на этот свет. Сцена – смыслом духовного и физического существования.
«Самоотдача. Сегодняшняя репетиция – главная в жизни, сегодняшний спектакль – главный, единственный в жизни. В результате возникала атмосфера чуда – со сцены в зрительный зал шли мощные импульсы».
Это написано Розой Абрамовной Сиротой о Павле Борисовиче Луспекаеве, но каждое слово приложимо к любому актеру из прославленной «Золотой дюжины». Так же как к любому из них применимы и слова Товстоногова, тоже сказанные о Луспекаеве. Повторим эти слова, слегка изменив их применительно к многим:
«Для них жить в условных предлагаемых обстоятельствах было легче, чем в подлинной жизни, как это ни звучит парадоксально. В условных обстоятельствах сцены жизнь их была более вдохновенна, более жизнерадостна. Ими двигала радость осуществления, радость физического приобщения к персонажу. И вела их интуиция».
Партнерам по сцене, не наделенным всем этим, было трудно с актерами «Золотой дюжины». Особенно – нетерпимым, эгоистичным. А нетерпимость или эгоистичность или – самое кошмарное! – сочетание этих качеств в человеке, не лишенном таланта, хотя и не блистающим им, страшное дело. Им никогда не понять, как это ради внеплановой репетиции, ни с того, ни с сего затеянной режиссером, можно не поехать на ЛСДФ или «Леннаучфильм» записать дикторский текст (за каких-нибудь час-два захалтурить десять-двадцать рублей – солидные по тем временам деньги) или на «Ленфильм», где на дубляже или озвучании можно заработать еще больше, или на радио, или на телестудию!.. Ради быстрого заработка такие актеры готовы на все тяжкие, и горе тому, кто оказывался на их пути!..
В среде таких актеров чаще всего зачинается, вызревает и выплескивается, наконец, наружу большая часть театральных интриг, завистливых провокационных разговоров и сплетен. Невозможно представить, чтобы кого-нибудь из актеров «Золотой дюжины», Владислава Стржельчика, например, или Николая Трофимова, всерьез озаботил вопрос, Большого ли драматического театра актер Луспекаев?..
Благоговейное отношение корифеев «Золотой дюжины» к своему служению для деятелей, о которых идет речь, в лучшем случае – слепой фанатизм, в худшем – угодничество и пресмыкание перед всесильным Гогой.
Ни того ни другого, между тем, не было. Вспомним описание профессиональных терзаний молодого, начинающего актера Олега Басилашвили, сделанное им самим. Или муки творчества, испытанные Павлом Луспекаевым в начале работы над образом Черкуна, описание которых оставил Кирилл Лавров. Или констатацию «новой простоты, созданной Луспекаевым» Сергея Юрского… Это ли не убедительнейшее свидетельство осознанной любви и осознанного отношения к своему призванию?!
Перед Гогой, действительно всесильным, угодничать было бесполезно, ибо он признавал лишь одну форму «угодничества» – классную работу, опирающуюся на истинное дарование, готовность ради сцены, театра и спектакля пожертвовать абсолютно всем, и – чтобы жертва не была вынужденной и тягостной, но желанной и необходимой –
искупительной!