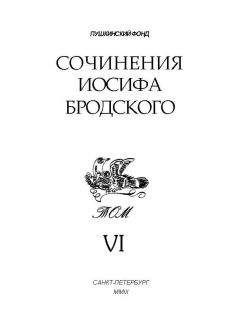Иван Пырьев. В его фамилии было что-то непокорное, колючее – он пырялся и попугивал, – но в нем жил и Ваня, деревенский мальчик, сын сельского гармониста, сродни Есенину.
Я расскажу то, что помню о нем. Может, эти маленькие сценки дополнят портрет.
Познакомился я с ним на том же четвертом этаже в Гнездниковском переулке. В тот момент я начал заниматься Киевской студией и должен был курировать «Украинфильм». Я видел «Партийный билет», после которого Пырьев ушел с «Мосфильма», но лично с ним знаком не был.
В комнату ко мне вошел красивый, поджарый, еще молодой человек в коричневом, под цвет глаз, костюме. Он был чем-то видимо недоволен. Спросил: «Кто Маневич?» Я поднялся, он осмотрел меня и протянул руку: «Я Пырьев». На первый взгляд он показался мне простоватым, – но, видимо, потому, что таким он хотел выглядеть.
Пырьев коротко поведал мне свою историю. Приехал он с фильмом «Богатая невеста». Вокруг фильма на Украине обстановка накалилась. В селе тогда было плохо, колхозное дело ладилось далеко не везде, искали вредителей, врагов народа, «кулацких последышей», призывали к бдительности, – а Пырьев в фильме показывал изобилие, любовные перипетии и танцы.
А ну-ка девушки, а ну красавицы,
Пускай поет о нас страна.
И громкой песнею пускай прославятся
Среди героев наши имена!
Люди танцевали, пели, гордились своим трудом и воспевали его.
Шумяцкий посмотрел фильм и, видимо, сам еще не зная, как с ним быть, велел его подсократить и подчистить. Надежды Пырьева, что его поддержат в Москве, становились эфемерными, положение его было сложным, и мне стало ясно, почему он был не в духе.
Мы пошли в зал, чтобы наметить сокращения и поправки.
Не могу сказать, что фильм мне понравился, в особенности в том неоконченном виде на двух пленках, в котором я смотрел его с Пырьевым в первый раз. Но в лучших его сценах были темперамент, искренний задор, радость. Душой фильма была музыка Дунаевского, воплощенная Пырьевым с захватывающим чувством ритма. Это было новое, совсем не похожее на «Веселых ребят» произведение.
«Богатая невеста» была дипломной работой Жени Помещикова, но Иван несколько видоизменил жанр, я бы сказал, облегчил сценарий, сделал его более условным. Это был колхозный водевиль – хотелось подпевать героям, мелодия врезалась в память, пырьевская удаль чувствовалась во многих сценах.
В общем, когда закончился просмотр, мы поговорили о фильме, быстро составили заключение о небольших подрезках и назавтра должны были встретиться.
Пырьев уходил в хорошем настроении: вырезалось только то, что он сам хотел исключить. И волки были сыты, и овцы целы. Он дружелюбно пожал мне руку, сказал что-то вроде комплимента, дескать, жаль, что я раньше не занимался фильмом.
Я быстренько продиктовал заключение стенографистке и пошел с ним к Шумяцкому. Здесь уже я понял, что дело обстоит не так просто. Шумяцкий, учитывая нажим из Украины и недолюбливая Пырьева за строптивость, не знал, как быть, и принял мое заключение с неудовольствием, резко сказал, что фильм нуждается в серьезной доработке: нужно смотреть по частям еще раз, с кем-то из редакторов. Утром Пырьев был у меня. Я показал ему неподписанное заключение. Он сам пошел к Шумяцкому, но вскоре вернулся злой.
Мы вновь пошли в зал. Не помню, кто еще из редакторов принял участие в просмотре. Мы смотрели фильм по частям, мне в основном приходилось выступать в роли арбитра между настроенным на бдительность редактором и Пырьевым.
Просмотры продолжались дня два: понимая, что если мы не создадим впечатление большой предстоящей работы, то заключение опять не будет подписано. Я развернул его на пять страниц, вставив туда и переозвучание досъемки, и пересъемки крупных планов, и подробно – все сокращения. Когда Иван увидел этот документ, он обомлел и вначале стал свирепеть, но, по мере чтения, он, видимо, все уразумел и, когда кончил читать, хитро улыбнулся и спросил: «Подпишет? Может, удлинить срок окончания работы?» Я накинул еще две недели и пошел вниз, Пырьев – за мной. Долго мы с ним толкались в предбаннике. Он еще раз прочел, видимо, прикинул, что поправки на пользу, и сказал мне: «Постарайся?» С тех пор мы с ним были на «ты».
Я скрылся в дверях. Борис Захарович долго читал, перечитывал, раздумывал. Посмотрел на сроки: «Пусть поработает». И написал в углу: «Согласен». Я вышел. По моему лицу Пырьев понял, что все в порядке. Он схватил бумагу, посмотрел на знакомую подпись, и мы с ним отправились на четвертый этаж.
Когда Пырьев приехал вновь, Шумяцкого уже не было. Фильм был быстро принят Дукельским, понравился наверху. Я не буду писать о фильме – то, что я о нем думал, я написал в рецензии, напечатанной в журнале «Искусство кино». Там я полемизировал с украинским критиком, который напечатал статью под названием «Шкидливый фильм», что значило «вредный» или даже «вредительский», как тогда многие расшифровывали. В этой моей статье звучат кое-какие пырьевские мысли: мы много говорили с ним о фильме и его замысле, мысли эти невольно нашли место в статье.
Вскоре создатели фильма были награждены. В гостинице «Метрополь» устроили импровизированный банкет. Обмывали не только ордена, но и рождение Андрея: помню, Ладыниной нельзя было пить, она кормила грудью.
Банкет этот я назвал импровизированным, потому что Иван все хотел, чтобы было четыре-пять человек – «подешевле», как говорил Женя Помещиков, настроенный так же, как Иван. А Леня Луков все созывал и созывал гостей, и за столом собралось человек двадцать. Было весело, молодо и безоблачно. А теперь я пишу, когда прошла уже жизнь Ивана, умер его старший сын Эрик, Андрей на днях дебютировал как режиссер, а Лени давно уже нет…
Иван носился с разными замыслами, а ко мне ходил Медведкин с новым сценарием Жени Помещикова «Трактористы». И я никак не мог их свести. Медведкин тянул к сатире, Помещиков – к «Богатой невесте». Кончилось все это тем, что меня вызвал Дукельский и сказал: «Трактористов» будет ставить Пырьев на «Мосфильме». Так Иван вернулся в Москву.
Я встретился с ним в Одессе, они снимали натуру где-то на Херсонщине. В Одессу он приехал с Володей Каплуновским, Гальпериным и Колей Крючковым. Внизу, в «Лондонской», опять было весело: Крючков обмывал орден за фильм «На границе».
Мы с Пырьевым сидели рядом, и он почему-то предложил выпить за меня, сказав, что я крестил его на «Трактористы», – хотя он прекрасно знал, как все это произошло.
Перед войной, да и в первый период войны мы с Иваном Александровичем изредка встречались на просмотрах, иногда у кого-нибудь из знакомых. Во время войны – когда я на несколько дней заезжал в Алма-Ату, в конце войны – когда он работал на «Мосфильме». Одно время, когда Иван был редактором «Искусства кино» и членом худсовета министерства, он чаще бывал в главке и, оказываясь в моем «стойле», обменивался новостями; почти перед каждой постановкой давал читать свой сценарий, хотя я к «Мосфильму» в то время отношения не имел. Помню свои беседы с ним по сценариям «В шесть часов вечера после войны», «Сказание о земле Сибирской».
Знакомство наше стало дружбой в 1954 году, когда Пырьев был назначен директором «Мосфильма».
В последний раз я помню его в буфете Комитета. Это не был тот большой просторный зал, который напоминает сейчас обычную столовую, обставленную портативной мебелью модерн с пластмассовыми столиками.
Комната была маленькая, в ней стояло лишь несколько больших столов, покрытых белыми скатертями. Я принадлежал к тем, кому по должности полагался завтрак, и миловидная официантка Шура, с цыганским лицом, очень чисто одетая, подавала ежедневные два бутерброда и стакан чая.
В буфет скорее вбежал, чем вошел, Пудовкин. Он осмотрелся, как бы впервые попав сюда, затем удивленно-беспомощно воззрился на нескольких человек, стоящих у стойки, которые при виде его расступились, готовые уступить очередь. Пудовкин, минуту помедлив, устремился к буфету.
– Благодарю вас. Благодарю вас.
Осмотрев прилавок, он нацелился глазами на бутерброды с рыбой и вдруг, отпрянув от полки, стал ощупывать карманы, поводя головой из стороны в сторону, осматривая сидящих в буфете… Увидев меня, он приветливо махнул рукой и быстро подошел к моему столику. Посмотрев на сидящую рядом сотрудницу, он вежливо поклонился, почти расшаркался, как будто приглашал к танцу, затем отозвал меня в сторону и, таинственно наклонясь, спросил:
– Вы располагаете деньгами?
Все это было так таинственно и значительно, что я невольно спросил:
– В каких размерах?
Всеволод Илларионович все так же полушепотом, поглядывая по сторонам, не обратил ли кто на нас внимание, проговорил:
– Надел не тот пиджак. Рубля три…
Я, подчиняясь его настроению, отвел Пудовкина в самый угол и, найдя в своем кармане всего два рубля, незаметно протянул их ему.
Пудовкин выпрямился.