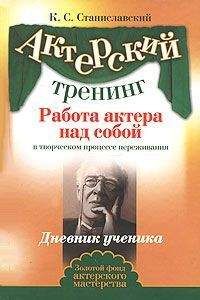Когда я разобрался в своем состоянии, то понял, что за счет мышц во мне сильно напряглось внимание. Оно следило за телом и мешало покойно отдыхать.
Я поделился своими наблюдениями с Аркадием Николаевичем.
– Вы правы. И в области внутренних элементов много лишних напряжений. Но только с внутренними зажимами надо обращаться иначе, чем с грубыми мышцами. Душевные элементы – паутинки по сравнению с мышцами – канатами. Отдельные паутинки легко порвать, но если вы сплетете из них жгуты, веревки, канаты, тогда их не перерубишь топором. Но в самом начале их зарождения будьте с ними осторожны.
– Как же обращаться с «паутинками»? – спрашивали ученики.
– При борьбе с внутренними зажимами надо также иметь в виду три момента, то есть напряжение, освобождение и оправдание.
В первые два момента ищешь самый внутренний зажим, познаешь причины его возникновения и стараешься уничтожить его. В третий момент оправдываешь свое новое внутреннее состояние соответствующими предлагаемыми обстоятельствами.
В разбираемом случае воспользуйтесь тем, что один из ваших важных элементов (внимание) не разбрелся по всему пространству сцены и зрительного зала, а сосредоточился внутри вас, на мышечных ощущениях. Дайте собранному вниманию более интересный и нужный для этюда объект. Направьте его на какую-нибудь увлекательную цель или действие, которые оживят вашу работу и увлекут вас.
Я стал вспоминать задачи этюда, его предлагаемые обстоятельства; мысленно прошелся но всей квартире. Во время этого обхода в моей воображаемой жизни произошло неожиданное обстоятельство: я забрел в неизвестную мне до сих пор комнату и увидел в ней древнего старичка и старушку – родителей жены, как оказывается, живущих у нас на покое. Это неожиданное открытие умилило меня и вместе с тем встревожило, так как при увеличении количества членов семьи усложняются и мои обязательства по отношению к ним. Надо много работать, чтоб прокормить пять ртов, не считая своего! При таких условиях моя служба, завтрашняя ревизия, общее собрание, предстоящая сейчас работа но разборке документов и по проверке кассы получили чрезвычайно важное значение в моей тогдашней жизни, на подмостках. Я сидел в кресле и нервно наматывал на палец попавшую мне в руку бечевку.
– Молодец! – одобрил меня из партера Аркадий Николаевич. – Вот это настоящее освобождение мышц. Теперь я верю всему: и тому, что вы делаете, и тому, о чем вы думаете, хотя я и не знаю, чем именно занята ваша мысль.
Когда я проверил свое тело, то оказалось, что мои мышцы совершенно освободились от напряжения, без всякого старания и насилия с моей стороны. По-видимому, сам собой создался третий момент, о котором я забыл, – момент оправдания моего сидения.
– Только не торопитесь, – шептал мне Аркадий Николаевич. – Доглядите внутренним взором все до конца. Если нужно, введите новое «если бы».
«А ну, как в кассе окажется большой просчет? – мелькнуло у меня в голове. – Тогда придется проверять книги, документы. Какой ужас! Разве сладишь с такой задачей один… ночью?..»
Я машинально посмотрел на часы. Было четыре часа. Чего? Дня или ночи? Я на минуту допустил последнее, заволновался от позднего времени, инстинктивно метнулся к столу и, забыв все, бешено принялся за работу.
– Браво! – услышал я краем уха одобрение Аркадия Николаевича.
Но я уже не обращал внимания на поощрения. Они мне были не нужны. Я жил, существовал на сцене, получил право делать там все, что мне заблагорассудится.
Но мне этого было мало. Я захотел еще усилить трудность своего положения и обострить переживание. Для этого пришлось ввести новое предлагаемое обстоятельство, а именно: крупную нехватку денег.
«Что же делать? – спрашивал я себя с большим волнением. – Ехать в канцелярию!» – решил я, метнувшись в переднюю. «Но канцелярия закрыта», – вспомнил я и вернулся в гостиную, долго ходил, чтоб освежить голову, закурил папироску и сел в темный угол комнаты, чтоб лучше соображать.
Мне представились какие-то строгие люди. Они проверяли книги, документы и кассу. Меня спрашивали, а я не знал, что отвечать, и путался. Упрямство отчаяния мешало чистосердечно признаться в своей оплошности.
Потом писали роковую для меня резолюцию. Шептались кучками по углам. Я стоял один, в стороне, оплеванный. Потом – допрос, суд, увольнение со службы, опись имущества, изгнание из квартиры.
– Смотрите, Названов ничего не делает, а мы чувствуем, что внутри у него все бурлит! – шептал Торцов ученикам.
В этот момент у меня закружилась голова. Я потерял себя в роли и не понимал, где – я и где – изображаемое мною лицо. Руки перестали крутить веревку, и я замер, не зная, что предпринять.
Не помню, что было дальше. Помню только, что мне стало приятно и легко выполнять всякие экспромты.
То я решал ехать в прокуратуру и бросался в переднюю, то я искал по всем шкафам оправдательные документы, и прочее и прочее, чего я сам не помнил и что узнал после, из рассказа смотревших. Во мне, как в сказке, произошло чудодейственное превращение. Прежде я жил жизнью этюда только ощупью, не до конца понимая то, что совершается в нем, в себе самом. Теперь же у меня точно открылись «глаза моей души», и я понял все до конца. Каждая мелочь на сцене и в роли получила для меня другое значение. Я познал чувства, представления, суждения, видения как самой роли, так и свои собственные. Казалось, что я играл новую пьесу.
– Это означает, что вы находите себя в роли и роль в себе, – сказал Торцов, когда я объяснил ему свое состояние.
Прежде я по-другому видел, слышал, понимал. Тогда было «правдоподобие чувства», а теперь явилась «истина страстей». Прежде была простота бедной фантазии, теперь же – простота богатой фантазии. Прежде моя свобода на сцене была определена точными границами, намеченными условностями, теперь же моя свобода стала вольной, дерзкой.
Я чувствую, что отныне мое творчество в этюде «сжигания» будет совершаться каждый раз по-разному, при каждом повторении его.
– Не правда ли, ведь это то, ради чего стоит жить и стать артистом? Это вдохновение?
– Не знаю. Спросите у психологов. Наука – не моя специальность. Я практик и могу только объяснить, как я сам ощущаю в себе творческую работу в такие моменты.
– Как же вы ее ощущаете? – спрашивали ученики:
– Я с удовольствием вам расскажу, но только не сего дня, так как надо кончать класс. Вас ждут другие уроки.
……………………… 19… г.
Аркадий Николаевич не забыл своего обещания и начал урок следующими словами:
– Давно, на одной из вечеринок у знакомых, мне проделали шуточную «операцию». Принесли большие столы: один с якобы хирургическими инструментами, другой – пустой – «операционный». Устлали пол простынями, принесли бинты, тазы, посуду. «Доктора» надели халаты, а я – рубашку. Меня понесли на «операционный» стол, «наложили повязку» или, попросту говоря, завязали глаза. Больше всего смущало то, что «доктора» обращались со мною утрированно нежно, как с тяжелобольным, и что они по-серьезному, по-деловому относились к шутке и ко всему происходившему вокруг.
Это настолько сбивало с толку, что я не знал, как вести себя: смеяться или плакать. У меня даже мелькнула глупая мысль: «А вдруг они начнут по-настоящему резать?» Неизвестность и ожидание волновали. Слух обострился, я не пропускал ни одного звука. Их было много: кругом шептались, лили воду, звякали хирургическими инструментами и посудой, иногда гудел большой таз, точно погребальный колокол.
«Начнем», – шепнул кто-то так, чтоб я слышал.
Сильная рука крепко стиснула мою кожу, я почувствовал сначала тупую боль, а потом три укола… Я не удержался и вздрогнул. Неприятно царапали чем-то колючим и жестким по верхней части кисти, бинтовали руку, суетились; падали предметы.
Наконец, после долгой паузы… заговорили громко, смеялись, поздравляли, развязали глаза, и… я увидел лежащего на моей левой руке грудного ребенка, сделанного из моей правой запеленутой руки. На верхней части ее кисти нарисовали глупую детскую рожицу.
Теперь является вопрос: были ли мои тогдашние переживания подлинной правдой, сопровождаемой подлинной верой, или же то, что я испытывал, правильнее было бы назвать «правдоподобием чувства»?
Конечно, это не было подлинной правдой и подлинной верой в нее. Происходило чередование: «верю» с «не верю», подлинного переживания с иллюзией его, «правды» с «правдоподобием». При этом я понял, что если бы на самом деле мне делали операцию, то со мною происходило бы в действительности почти то же, что отдельными моментами я испытывал во время шутки. Иллюзия была в достаточной степени правдоподобна.
Среди тогдашних чувствований выпадали моменты полного переживания, во время которых я ощущал себя, как в действительности. Были даже предчувствия предобморочного состояния, – конечно, на секунды. Они проходили так же быстро, как появлялись. Тем не менее иллюзия оставляла следы. И сейчас мне кажется, что испытанное тогда могло, бы произойти и в подлинной жизни. Вот как я впервые почувствовал намек на то состояние, в котором много от подсознания, которое теперь я так хорошо знаю на сцене, – заключил рассказ Аркадий Николаевич.