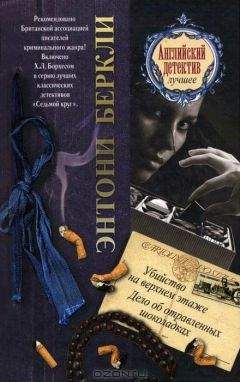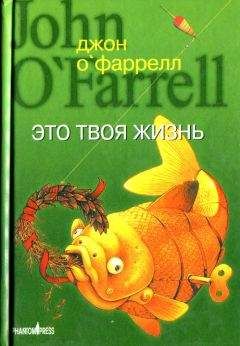«И вот, дабы утихомирить своих врагов, а друзей утешить, я обращаюсь к тебе, наисвятейший отец, и в безопасной сени твоих крыл высказываюсь со всей откровенностью. Ибо я преклоняюсь перед властью ключей. Если бы мои дела были предосудительны, то светлейший государь Фридрих, герцог и курфюрст Саксонский, взысканный твоей апостольской благосклонностью, не стал бы держать меня в своем университете в Виттенберге. Он бы не потерпел рядом столь опасное чудовище, каким меня выставляют мои враги. И потому, наисветлейший отец, я припадаю к стопам вашего святейшества и предаюсь твоей воле таким, каков я есть. Рассуди, прав я или заблуждаюсь. Возьми мою жизнь или верни ее мне, как тебе будет угодно. Я послушаюсь твоего голоса, как голоса самого Иисуса Христа. Если я заслуживаю смерти, я не откажусь принять смерть. Земля — господне творение, и все на ней от бога. Да хвалят имя его вечно, и да пребудет на тебе всегда его милость. Писал в день святой Троицы 1518 года Мартин Лютер, августинский монах».
Все ждут, когда Лев X кончит свои игры и уделит внимание письму. Папа встает, берет у Милътица письмо. Задумывается.
Лев. Двуличный германец, ублюдок. Почему не сказать ясно, чего он хочет? Что-нибудь еще?
Мильтиц. Он заявляет, что хочет предстать перед судом любого университета в Германии, исключая Лейпциг, Эрфурт и Франкфурт, ибо они не беспристрастны, как он считает. Он заявил, что явиться в Рим считает для себя невозможным.
Лев. Еще бы!
Мильтиц. Его здоровье, он говорит, не вынесет тягот путешествия.
Лев. Лукавец! Лукавый немецкий ублюдок! Что пишет о нем Штаупиц?
Мильтиц (быстро прочитывает другое письмо). «Преподобный отец Мартин Лютер составляет украшение и славу нашего университета. На протяжении многих лет мы видели его блестящие способности…»
Лев. Так, это мы знаем, слышали. Пишите Каетану. Мы поручаем вам вызвать к себе Мартина Лютера. Заручитесь поддержкой нашего дражайшего сына во Христе Максимилиана, соберите всех немецких князей, а также призовите от всех общин, университетов и властей духовных и светских. Заполучив Лютера, охраняйте его бдительно, дабы затем препроводить сюда в Рим. Если, однако, он по доброй воле вспомнит свой долг и раскается, мы облекаем вас властью вернуть его в незыблемое единство нашей святой матери-церкви. Но если он будет упорствовать, а завладеть им не удастся, мы уполномочиваем вас объявить его вне закона по всей Германии. Исторгнуть и отлучить от церкви. Также объявить вне закона прелатов, религиозные ордена, университеты, графов и герцогов, которые не окажут содействия в его задержании. О мирянах: если не подчинятся беспрекословно вашим распоряжениям, объявить их позорными отступниками, лишенными христианского погребения и всех милостей, которые им полагались от апостольского престола и от любого другого государя. Вепря, вертоград господень разоряющего, нужно загнать и убить. Дано и скреплено печатью ловца человеков — ну и так далее. Все. (Быстро поворачивается и уходит.)
Сцена шестая
Эльстерские ворота в Виттенберге. 1520 год. Вечер. Звонит одинокий колокол. На заднике представлена папская булла, отлучающая Лютера от церкви. На булле пляшет отблеск костров, разложенных у Эльстерских ворот; в огне жарким пламенем горят книги канонического права и папские декреталии. Снуют монахи, подносят новые книги и документы и швыряют их в огонь. Входит Мартин, поднимается на кафедру.
Мартин. Мне вручили вот эту бумагу. Хочу рассказать о ней. Бумагу эту вынесли из отхожего места, называемого Римом, из самой столицы прелестного царства сатаны. Бумага зовется папской буллой, она отлучает меня, доктора Мартина Лютера, от церкви. От бумаги разит брехней, как гнилью из европейского болота. Ибо папское письмо — это дьявола дерьмо. Я подниму бумажку выше, чтобы вы лучше ее разглядели. Видите подпись? Под печатью ловца человеков вывел подпись некий срамной член, прозванный Львом, — он главный золотарь у сатаны, лоснящийся глист, а для вас — его святейшество папа. Вам говорят, что он первый человек в церкви. Что ж, может быть. Как рыба — первое лакомство для кошки. Груда вылизанных костей с парой тусклых мертвых глаз. Господь сказал мне: уходи с этого кошачьего пира! А буллу — в огонь, в огонь ее вместе с шарами Медичи! (Сходит с кафедры, бросает буллу в костер. Его лихорадит, как при удушье или перед припадком. Дрожа, он опускается на колени.) Господи! Господи, помоги устоять против разума и мудрости мира. Ты должен, ты один можешь помочь. Вдохни в меня силу. Вдохни, как дышит лев в пасть мертворожденного львенка. Ведь не мое — твое дело решается. Для себя я никогда бы не стал связываться с владыками мира сего. Я хочу жить в покое, тихо и одиноко. Вдохни в меня силу, Иисусе. Люди не могут, вся надежда на тебя. Ты слышишь меня, господи? Или ты умер? Умер?! Нет, ты не можешь умереть, ты можешь только скрыться. Верно? Господи, мне страшно. Я ребенок, потерянный ребенок. Я мертворожденный. Вдохни в меня жизнь, господи, во имя сына твоего, Иисуса Христа, который сделается для меня защитником и избавителем, моей нерушимой крепостью, — вдохни в меня, господи. Дай жизнь. Дай мне жизнь, господи. (Молится.)
Яркий свет костров затопляет окружающую тьму.
Сцена первая
Рейхстаг в Вормсе. 18 апреля 1521 года. Золотого цвета занавес, на нем — четкая, пестрящая красками, залитая ярким солнечным светом картина этого исторического съезда князей, курфюрстов, герцогов, послов, епископов, графов, баронов и прочая. На картине можно показать повозку, в которой Лютер приехал в Вормс. Одним словом, разряженное под Ренессанс средневековье.
У подобных картин нет глубины, они пишутся на сверкающем золотом фоне. Движение сковано, перспектива игнорируется, фигуры и целые сюжеты располагаются по плоскости вверх. Пейзаж как бы вздымается дыбом. Режиссер и художник вправе избрать другой путь и расписать полотно в манере Альтдорфера, например. Перед полотном — тесная, впору одному человеку кафедра с медными поручнями. Желательно, чтобы эта часть авансцены была немного выдвинута в зал. В любом случае нужно стремиться до предела раздвинуть рамки действия, создать впечатление сопричастности событиям, которые разыгрываются на сцене; нужно, чтобы зритель как бы лег подбородком на канаты боксерского ринга. Здесь же, на авансцене, несколько кресел. Стол, на нем десятка два книг. Стол и книги тоже можно показать на золоченом полотне. Еще несколько кресел стоят полукругом у кафедры. Со всех концов зала стройно и сильно звучат фанфары, и на авансцену выходят (лучше — прямо из зрительного зала) некоторые участники рейхстага (им тоже можно найти место на золотой фреске). Впереди выступает герольд, за ним все остальные. Рассаживаются. Среди этих лиц: император Карл V, (он садится перед кафедрой), папский нунций Алеандро, рыцарь Ульрих фон Гуттен, архиепископ Трирский с секретарем и Иоганн фон Экк. Последний занимает место у стола с книгами. Трубы смолкают. Ожидание. Из глубины сцены появляется Мартин и всходит на кафедру.
Экк (поднявшись). Мартин Лютер, ты был призван его императорским величеством, чтобы дать ответ на два вопроса. Можешь ли ты публично признаться в том, что являешься автором представленных здесь книг? Когда я вчера задал тебе этот вопрос, ты немедленно согласился, что эти книги действительно паписаны тобой. Это так?
Мартин утвердительно кивает.
Когда я перешел ко второму вопросу, ты попросил дать время на размышление. Вряд ли в этом была нужда, ибо ты опытный диспутант и весьма толковый доктор богословия. И все же его императорское величество милостиво согласился исполнить твою просьбу. Теперь время кончилось — у тебя были день и целая ночь, — и я повторяю свой вопрос. Ты признал эти сочинения своими. Будешь ты защищать все свои сочинения или от некоторых откажешься? (Садится.)
Речь Мартина — спокойная, в тоне беседы. Он говорит ровным голосом, простыми словами.
Мартин. Ваша светлость, преславные князья и сиятельные вельможи, божьей милостью я стою перед вами и прошу выслушать меня со вниманием. Если по невежеству я кого-нибудь назвал неверным титулом или еще чем-нибудь нарушил приличный этому месту устав, — не взыщите: я плохо знаю мир, я странствовал лишь по углам монашеской кельи. Мы согласились на том, что все эти сочинения принадлежат мне и что на отпечатанных книгах мое имя стоит по праву.
Отвечу на второй вопрос. Прошу Припять во внимание, ваше светлое величество и сиятельные вельможи, что не все мои книги одинаковы. Есть работы, где я простодушно рассуждаю от сокровищах веры и нравоучения, и даже враги мои сходятся на том, что эти сочинения безвредны, что их можно без опаски дать самому нетвердому христианину. И, сколь суровой и жестокой ни была направленная против меня булла, — даже в ней признается, что некоторые моя книги совсем не оскорбительны. Только от этих оговорок никому не легче, поскольку булла и эти книги предает проклятию наряду с остальными, которые она сочла оскорбительными. Если я стану отказываться от этих книг, что же получится? Получится, что я предаю проклятию те самые положения, в которых сошлись и мои друзья и мои враги. Есть другая категория книг: в них я нападаю на власть ключей, разорившую христианский мир. Никто не может этого отрицать: все это видят, все на это жалуются. И больше всех от этой тирании страдают немцы. Их обирают до нитки. Если сейчас я отрекусь от этих книг, я помогу тирании размахнуться еще сильнее. На это я никогда не пойду. Третья партия книг направлена против определенных личностей, против людей известных, знатных. Они все защищают Рим, они враги моей религии. Возможно, В этих сочинениях я высказался чересчур резко, даже, может быть, слишком грубо для монаха. Но ведь я и не лезу в святые, и защищаю я не самого себя, а учение Христа. Как видите, и от этих книг я тоже не могу отказаться, иначе положение никогда не переменится и все будет идти по-старому. Однако я человек, а не бог, и пример моего Спасителя подсказывает мне единственное средство защитить свои сочинения. Когда первосвященник Анна спросил Иисуса о его учении, а какой-то служитель ударил его по лицу, Иисус ответил: «Если я сказал худо, покажи, что худо». Раз сам непогрешимый господь Иисус Христос пожелал выслушать возражения какого-то служителя, то и я должен поступать точно так же.