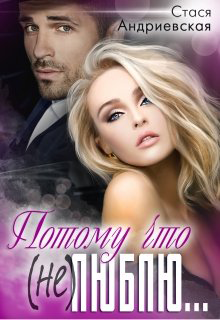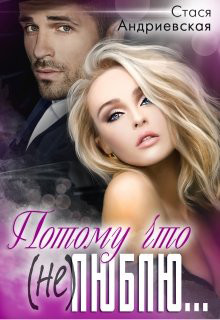он говорил, что маршрут сложный, он лукавил. На самом деле это был полный грёбанный @дец, но понял я это не сразу.
С того самого момента, как мы покинули последний на нашем пути капитальный ночлег — пока на лошадях, но всего лишь до ближайшего пастушьего стана в степи, откуда дальше отправились уже пёхом — и до самого конца маршрута, каждая минута жизни была наполнена борьбой. Со стихией, когда от мороза и ветра начала трескаться кожа лица, с цифровым детоксом, когда, особенно по началу, ломало от нехватки возможности забыться, уткнувшись в гаджет. Но, главное — с внутренними бесами.
Ведь несмотря на то, что мы были командой — день за днём, из часа в час, каждый из нас находился наедине лишь с собой. Сам себе слушатель, судья, критик, спасатель и нытик. Количество слов, произнесённых вслух, не превышало тогда и пары сотен за сутки. Да и то — многовато как-то. Мы просто шли, то обмороженные ветром и ослеплённые сияющей белизной снега, то измождённые подъемами-спусками и маниакальной жаждой следующего привала. А когда привал всё-таки случался, мы всё равно интровертно продолжали вести внутренние монологи.
Поначалу я разочаровался. Казалось, глупее маршрута не придумать — кроме того, что он действительно выматывал, я не видел в нём ничего интересного: ни обещанного экстрима, ни хотя бы зрелищных пейзажей.
— Почему именно Монголия, а не Сибирская тайга, например? — спросил я как-то у Лёшки. — Тошнит уже от однообразия.
Он пожал плечами:
— А какая разница? Если ты не настроен видеть большее, то ты не увидишь его ни на Лазурном побережье, ни на Марсе.
И я задумался над этим. Не важно, что мелькает перед глазами — новостная лента соцсетей, офис, лица друзей или заснеженные холмы. Если это превращается в бессознательную рутину, то рано или поздно от неё начинает тошнить. И даже жизнь превращается в однообразие, когда перестаёшь замечать её ценность.
Наверное, через эти стадии осмысления проходил каждый из нашей команды, потому что к концу второй недели мы как-то вдруг начали общаться, и ночные привалы превратились в посиделки слов, эдак, на тысячу в противовес прежней сотне.
Особенным шиком было умудриться насобирать в течение дня хвороста на костёр, такой, чтобы хватило хотя бы на полчасика — потаращиться на языки пламени и мерцающие угли. Ещё одно удовольствие — повстречать на пути кочевых оленеводов и, на сравнении с их какой-то особой энергией жизни, словно погрузиться на ещё более глубокий уровень самих себя.
В нашей команде никто никого не допекал расспросами или, наоборот, рассказами о себе. И без того уже стало окончательно понятно, что все мы так или иначе сбежали сюда от самих себя. Но именно здесь неожиданно остались с собою наедине, и бежать дальше уже просто некуда.
И с этого-то и начались основные проблемы: застарелое говно полезло из нас как каша из волшебного горшочка, и сколько не кричи «не вари!» — бесполезно. Ему надо было вылезти, и без вариантов.
Начались дурацкие стычки и обидки. Мы вели себя как сопливые, разобиженные на весь свет пацаны, которым страсть, как не хватает хорошей порки, и иногда даже Лёшкиного авторитета не хватало чтобы справиться с нашими амбициями. А деваться некуда — вокруг ни души, и мы в одной упряжке.
Удивительно ли, что мы доигрались? Раздолбайство одного, помноженное на упёртость другого и самомнение третьего — и вот, несмотря на усилия инструктора, мы уже сбились с тропы. До темна пытались выйти на свой же след, но так и не вышли, только едва не потеряли одного из членов команды. А ночью началась метель, и мы окончательно увязли.
Метель не прекращалась двое суток, и мы всё это время посменно дежурили — стряхивали снег с крыши, не давая ему комковаться, обледеневать и рвать палатку. Возводили защитную стену с наветренной стороны. Пытались уловить хоть какой-то радио- или GPS-сигнал.
Во всей этой возне один из наших умудрился обморозить пальцы повреждённой ещё на прошлой неделе ноги, а другой слёг в лихорадке. И только метель всё бесилась, и стало откровенно страшно от безразличного могущества стихии, перед которым все мы равны, а наши личные проблемы — ничтожны. Даже Лёшкин благодушно-философский настрой сменился озабоченной немногословностью. И каждый из нас понял — это вполне может оказаться нашим последним путешествием.
Но зато перед этой общей угрозой, из нас наконец-то перестало лезть говнище, и мы переключились с мелкого на крупное — с себя любимых, на команду в целом. И неожиданно оказалось, что у всех нас есть много общего, и нам есть о чём общаться — с интересом и помногу. Даже несмотря на тяжелейшие условия, в которых мы оказались.
На третью ночь метель неожиданно прекратилась, повисла звенящая тишина, а чернильное бескрайнее небо засверкало мириадами звёзд.
— Если до рассвета никто не выйдет на связь, пойдём сами, — отбросив использованную ракетницу, предупредил меня Лёшка. — Пётр идти не сможет, придётся волочить на салазках. А груз — частично бросать здесь, частично, самое необходимое, на себе тащить. Не вовремя Кольку залихорадило, конечно. Возможно, часть его груза тоже придётся взять на себя.
— Куда пойдём-то? — глядя на бескрайнюю равнину девственного снега, нахмурился я. — Связи по-прежнему нет.
— На Запад, — глянув на небо, уверенно кивнул Лёшка. — По компасу. Но, надеюсь, нас всё-таки раньше заметят. Не знаю, как сильно мы сбились с пути, но в любом случае, есть надежда, что шли в нужном направлении.
Всё это выглядело так ненадёжно… но Лёшка долгое время работал спасателем МЧС, возглавлял поисковые отряды и уже почти десять лет водил экстремальные группы, и нам не оставалось ничего, кроме, как довериться ему.
Ещё через час, выпустив в небо очередную сигналку, он неожиданно нарушил негласное правило не лезть с разговорами о личном:
— Так ты чего пошёл-то сюда? Из-за жены? Винишь себя?
И я вспомнил, что кроме того, что прямо сейчас являюсь частично подмороженным, давно немытым телом в куртке-аляске экстремальной расцветки, я ещё и «публичное» лицо города. Человек, кости которого время от времени не перемывает разве только самый ленивый журналюга. Усмехнулся неожиданной дешевизне связанных с этим понтов: тачка за двадцать лямов с набором царапин на капоте — повод считать себя униженным настолько, что вместо того, чтобы продать её и пустить деньги, например, на благотворительность, я предпочёл её уничтожить? И это «большой» деловой человек? Серьёзно?
Как всё-таки глубоко видела мою дурость Маринка. Знала и просчитывала наперёд каждый загрёб. В отличие от меня самого, который не видел дальше своего