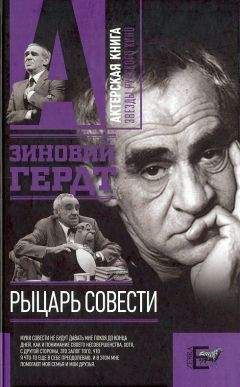Кетхен. Милый отец!
Теобальд. Скажи хоть слово.
Кетхен. Мы уже дошли?
Теобальд. Дошли. Там, в красивом здании с башнями, зажатом в ущелье, находятся тихие кельи набожных августинцев[18], а здесь — священное место, где они молятся.
Кетхен. Я что-то устала.
Теобальд. Так присядем. Подойди-ка, подай мне руку, я тебя поддержу. Здесь перед решеткой есть скамейка, поросшая короткой густой травой. Взгляни, никогда не видывал приятней местечка.
Садятся.
Готфрид. Как ты себя чувствуешь?
Кетхен. Отлично.
Теобальд. Но ты все же бледна, и лоб у тебя весь в ноту.
Пауза.
Готфрид. Прежде ты была такая крепкая, могла пройти целые мили через леса и поля, а чтоб отдохнуть, тебе довольно было камня под голову да узелка, что ты несла за плечами. А сейчас ты так изнурена, что, кажется, все постели, на которых почивает императрица, не помогли бы тебе стать на ноги.
Теобальд. Может, подкрепилась бы чем-нибудь?
Готфрид. Принести тебе глоток воды?
Теобальд. Или поискать спелых ягод?
Готфрид. Скажи хоть слово, милая Кетхен.
Кетхен. Спасибо, милый отец.
Теобальд. Ты благодаришь нас.
Готфрид. Ты от всего отказываешься.
Теобальд. Тебе ничего не надо, только поскорее бы конец, только поскорее бы пошел я к приору[19] Гатто, моему старому другу, да сказал: пришел старый Теобальд похоронить свое единственное, любимое дитя.
Кетхен. Милый отец!
Теобальд. Ну хорошо. Пусть так. Но прежде чем сделать решительный шаг, от которого уж не отступишься, я хочу тебе кое-что сказать. Я скажу тебе, что мне и Готфриду пришло в голову, пока мы сюда шли, и что, сдается нам, надо сделать, прежде чем мы обо всем этом поговорим с приором. Хочешь это знать?
Кетхен. Говори!
Теобальд. Ладно, слушай же хорошенько и крепко пытай свое сердце! Ты хочешь уйти в монастырь урсулинок[20], что скрыт далеко в горах, поросших сосновым лесом. Не прельщает тебя мир, радостное поле жизни. В одиночестве, в благочестии хочешь ты созерцать лик божий, чтобы это заменило тебе отца, брак, детей и ласки маленьких славных внучат.
Кетхен. Да, милый отец.
Теобальд (немного помолчав). А что, если бы тебе вернуться недели на две, пока погода еще хорошая, к тем стенам и еще раз хорошо все продумать?
Кетхен. Как так?
Теобальд. Я говорю, вернуться бы тебе в Штральбург, под бузиновый куст, где чиж себе гнездо свил, знаешь, под навесом скалы, откуда замок, озаренный солнцем, глядит на поля и села?
Кетхен. Нет, дорогой отец.
Теобальд. Почему — нет?
Кетхен. Граф, мой господин, запретил мне это.
Теобальд. Запретил. Хорошо. И того, что он тебе запретил, ты делать не должна. Но что, если бы я пошел к нему и попросил, чтобы он тебе это разрешил?
Кетхен. Как? Что ты говоришь?
Теобальд. Если бы я попросил его отвести тебе местечко, где тебе было так хорошо, а мне — дать разрешение с любовью снабжать тебя там всем, что тебе понадобится?
Кетхен. Нет, дорогой отец.
Теобальд. Почему — нет?
Кетхен. Ты этого не сделаешь. А если бы ты это и сделал, граф не разрешит. А если бы он и разрешил, я не воспользуюсь его разрешением.
Теобальд. Кетхен, милая моя Кетхен! Я это сделаю. Я лягу у ног его, как сейчас лежу у твоих, и скажу: «Мой высокий господин! Позвольте, чтобы Кетхен жила под небом, простершимся над вашим замком. А когда вы будете выезжать из замка, позвольте, чтобы она следовала за вами издали, на расстоянии полета стрелы, а когда настанет ночь, дайте ей местечко на соломе, что подстилаете гордым вашим скакунам. Все же это лучше, чем погибать ей от скорби».
Кетхен (тоже опускаясь перед ним на колени). О господи, всевышний владыка! Отец, ты уничтожаешь меня! Слова твои, как будто ножом, крест-накрест распороли мне грудь. Теперь я уж не пойду в монастырь, вернусь с тобой в Гейльброн, забуду графа, выйду замуж, за кого ты захочешь. Пусть даже брачным ложем мне будет могила в восемь локтей глубиной.
Теобальд (встает и поднимает ее). Ты сердишься на меня, Кетхен?
Кетхен. Нет, нет! Что это пришло тебе в голову?
Теобальд. Я доставлю тебя в монастырь.
Кетхен. Ни за что, никогда. Ни в Штральбург, ни в монастырь! Отведи меня только на ночь к приору, чтобы мне было где приклонить голову. А на заре, если можно будет, уйдем обратно. (Плачет.)
Готфрид. Что ты натворил, старик?
Теобальд. Ах, я ее оскорбил!
Готфрид (звонит). Дома приор Гатто?
Привратник (открывает дверь). Слава Иисусу Христу!
Теобальд. Во веки веков, аминь!
Готфрид. Может быть, она придет в себя.
Теобальд. Пойдем, доченька!
Все уходят.
Гостиница.
Входят Рейнграф фом Штейн и Фридрих фон Гернштадт, за ними Якоб Пех, хозяин гостиницы, и слуги графа.
Рейнграф (слугам). Расседлать коней! Расставить часовых на триста шагов вокруг гостиницы, впускать всех, не выпускать никого. Остальные пусть кормят лошадей и остаются в конюшнях, показываясь как можно меньше. Когда Эгингардт возвратится из Турнека с новостями, я отдам дальнейшие приказания.
Слуги уходят.
Якоб Пех. С позволения вашей милости, доблестный господин, — я и моя жена.
Рейнграф. А там?
Якоб Пех. Скотина.
Рейнграф. Что?
Якоб Пех. Скотина — свинья со своим пометом, с позволения вашей милости. Это ведь свинарник, сколоченный на дворе из дранки.
Рейнграф. Хорошо. А тут кто живет?
Якоб Пех. Где?
Рейнграф. Вон за той, третьей, дверью?
Якоб Пех. Никто, с позволения вашей милости.
Рейнграф. Никто?
Якоб Пех. Никто, доблестный господин, истинно так — никто. Или, вернее, кто угодно. Это — выход в чистое поле.
Рейнграф. Хорошо. Как тебя звать?
Якоб Пех. Якоб Пех.
Рейнграф. Иди себе, Якоб Пех.
Якоб Пех уходит.
Притаюсь здесь, как паук, чтоб выглядеть, как невиннейший комочек пыли. А когда она попадется в сеть, эта Кунигунда, наброшусь на нее и глубоко, в самое сердце, вонжу ей жало мести. Смерть ей, смерть, смерть, а скелет ее пусть хранится на чердаке Штейнбурга как памятник архиблуднице!
Фридрих. Потише, Альбрехт, потише! Ведь Эгингардт, которого ты послал в Турнек, чтоб он в точности разузнал о том, что ты подозреваешь, еще не возвратился.
Рейнграф. Ты прав, друг. Эгингардт еще не вернулся. Хотя в письме этой негодницы прямо сказано: она мне низко кланяется, в хлопотах моих ей больше нет нужды, граф фом Штраль уступил ей Штауфен по дружескому соглашению. Клянусь своей бессмертной душой, если во всем этом есть какой-то честный смысл, я готов это проглотить и отменить приготовления к войне, которые я ради нее делал. Но если Эгингардт вернется и подтвердит дошедшие до меня слухи, что она с ним обручилась, тогда я сложу свою учтивость, как перочинный ножик, и выбью из нее все военные расходы, даже если бы пришлось перевернуть ее верх ногами, так, чтобы по геллеру вытряхивать все у нее из карманов.
Те же. Входит Эгингардт фон дер Варт.
Рейнграф. Ну, друг, приветствую тебя, как верный друг и брат. Как обстоит дело в замке Турнек?
Эгингардт. Друзья, все — так, как твердит молва! Они на всех парусах плывут по океану любви и еще до того, как обновится месяц, войдут в гавань брака.
Рейнграф. Пусть молния ударит в их мачты, прежде чем они туда попадут!
Фридрих. Они уже обручились?
Эгингард. Думаю, что словами это еще не подтверждено, но если взгляды говорят, выражения лиц пишут, а рукопожатия скрепляют печатью, то, можно сказать, брачный договор уже готов.
Рейнграф. А как случилось, что он отдал ей Штауфен? Это ты мне расскажи.
Фридрих. Когда он принес ей этот дар?
Эгингардт. Э! Позавчера утром, в день ее рождения, когда родичи устроили ей в Турнеке блестящее празднество. Едва солнце озарило ее ложе, как она нашла дарственную у себя на одеяле. А дарственная, сами понимаете, вложена в письмецо влюбленного графа, где сказано — это, мол, его свадебный дар, если она соизволит отдать ему свою руку.