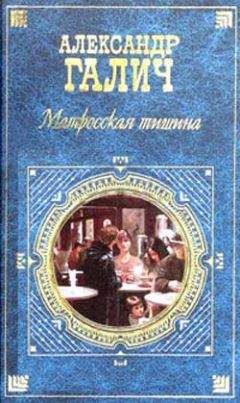Давид. Я солгал тебе. Я их взял.
Шварц (помолчав, строго). Надеюсь, что больше этого никогда не повторится, Давид! (Прислушался к чему-то, что слышно только ему одному, встал.) Ну, мне пора!
Давид. Ты уходишь уже?
Шварц. Мне пора.
Давид. Как скоро! Но ведь мы еще увидимся, правда?
Шварц. Нет, милый. Больше мы уже не увидимся. Оттуда не ходят поезда, не приносят писем и телеграмм. Мы не увидимся больше. Может быть, я тебе приснюсь… Впрочем, я не люблю, когда люди вспоминают и рассказывают свои сны… Мало ли что кому может присниться?! Прощай, мой родной!..
Давид. Папа!
Шварц. Прощай.
Давид. Папа, погоди… Папа!..
Но Абрама Ильича уже нет. Исчезает и дрожащее, зыбкое пятно света, падавшее на табурет. Гудит поезд. Стук колес становится громче. Это санитары выносят в тамбур носилки, покрытые белой простыней. Людмила дрожащими руками торопливо прибирает опустевшую койку Одинцова, разглаживает одеяло, взбивает подушку. Захлопывается дверь в тамбур. Тишина. За окнами вагона понемногу начинает светать. Людмила садится на табурет возле койки Давида.
Давид. Пана!.. Папа, я хотел тебе сказать…
Людмила. Что, Додик? Что ты?
Давид. Я хотел тебе сказать… Нет… Это ты, Люда?
Людмила. Да, милый.
Давид. Громче. Я ничего не слышу. Что?.. Как долго!.. Что?.. Это ты, Люда?
Людмила. Да. Все будет хорошо, милый.
Давид. Громче.
Людмила (тихо). Все будет хорошо… Я тебя выхожу! Я выхожу тебя, мой любимый, ненаглядный мой. Ты будешь слышать. Ты будешь видеть. Ты встретишься с Таней!.. (Сжала руки.) Ах, какая простая беда приключилась со мной – я люблю тебя, а ты любишь свою красивую Таню…
Давид. Громче.
Людмила (еще тише). А ведь я все придумала, милый. Я не видела Таню в тот день, шестнадцатого октября. Я даже не знаю где она была и что она делала. И это я одна стояла под репродуктором на площади Пушкина и слушала, как ты играешь мазурку Венявского. И ревела в три ручья, как самая последняя дура…
Сгорбив плечи и шмыгая носом, входит маленькая санитарка.
Санитарка. Людмила Васильевна!
Людмила. Отнесли, Ариша?
Санитарка. Отнесли, Людмила Васильевна. (Еще раз шмыгает носом и отворачивается в сторону, к окну.)
Давид. Люда!
Людмила. Что, милый?
Давид. Где мы сейчас едем, Люда?
Людмила. Подъезжаем к реке. Лодки качаются у причала. А на берегу стоит маленький домик. Совсем игрушечный. Поблескивают окна. Из трубы идет дым. Там, верно, живет бакенщик! (Вздохнула.) Если бы я могла, милый, – я остановила бы сейчас поезд, взяла бы тебя на руки, постучала бы в дверь этого домика… Многим, я думаю, многим, и не один раз, приходило это в голову! И еще никто и никогда не отважился почему-то на это! А ведь как, казалось бы, просто – остановить поезд, соскочить вдвоем со ступенек вагона…
Давид (неожиданно). Земля!.. Большая моя земля!..
Людмила. Что ты говоришь, Додик? О чем ты?
Долгое молчание. Снова громче и резче застучали колеса, замелькали за окнами чугунные стропила моста.
Санитарка (странным, сдавленным голосом). Мост, Людмила Васильевна!
Людмила. Ну и что?
Санитарка. Одинцов говорил – помните?
Гудит поезд. Мелькают за окнами вагона стропила моста. Поскрипывает и покачивается на ремнях пустая койка над головой Давида. Тревожный шепот прокатывается по вагону:
– Мост проезжаем!
– Старшина-то все увидеть хотел!
– Мост!..
– Мост!..
Людмила (прислушиваясь). Проехали.
Санитарка. А теперь лесок будет!..
Тишина. Стучат колеса. Молчание.
Людмила. Проехали лесок…
Санитарка (глядя в окно). Водокачка… Склады дорожные…
И весь вагон повторяет за нею:
– Водокачка!
– Склады дорожные!
– Водокачка!
Санитарка. Сосновка!
И едва только произносит она это слово, как в окна вагона врывается стремительный разнобой голосов:
– Яички каленые, яички!
– Варенец, варенец!
– Покупайте яблоки, братья и сестры! Давай налетай, полтора рубля штука, на десять рублей…
Но поезд, не останавливаясь, проносится мимо. Замирают вдалеке голоса. Поскрипывает и покачивается на ремнях пустая койка над головой Давида. Тишина. И вдруг кто-то закричал, задыхаясь и захлебываясь слезами:
– А-а-а!.. Не хочу, не хочу!.. А-а-а!..
Людмила (поспешно встала, прошла в конец вагона). Что с вами, Каспарян?! Успокойтесь, успокойтесь, голубчик! Нельзя так! Ну, тише, тише, тише, успокойтесь!..
Рванув дверь тамбура, в вагон быстро входит Иван Кузьмич Чернышев – в белом халате, туго обтягивающем квадратные плечи.
Чернышев. Людмила Васильевна! У вас радио включено?
Людмила. Нет, товарищ начальник… А что? Письма из дома?
Чернышев. Сообщение Информбюро. Сейчас должны повторить. Я был в третьем вагоне, там точка в неисправности – я не все расслышал! (Положил руку Людмиле на плечо, тихо проговорил.) Держитесь, дружок, на вас лица нет. Держитесь, прошу вас!
Людмила. Стараюсь! (Позвала.) Ариша! Включи радио!
Санитарка. Письма из дома?
Людмила. Сообщение Информбюро.
Санитарка. Ой, сейчас, Людмила Васильевна! (Включает репродуктор.)
Тишина. Стук метронома.
Чернышев. Как Давид?
Людмила. Плохо.
Чернышев (наклонился к Давиду). Здравствуй, братец. Здравствуй, Давид… Это я – Чернышев… Ты слышишь меня?
Молчание.
Людмила (тихо). Он не слышит. Он совсем, совсем ничего не слышит!..
Молчание. Обрывается стук метронома, слышен голос диктора:
«От Советского Информбюро. В последний час! Сегодня, шестнадцатого октября, наши войска, прорвав глубоко эшелонированную оборону противника, перешли границы Восточной Пруссии и овладели рядом крупных населенных пунктов, в том числе стратегически важными городами Гумбиннен и Гольдап… Наступление продолжается!..»
Гремит марш.
Чернышев (взмахнув рукой). Товарищи! Вот… Вот… Что мы сделали! (У него перехватило дыхание.) Я поздравляю вас!.. Вот… Вот что мы с вами сделали, дорогие мои!
Гремит марш. Постукивают колеса. Протяжно гудит поезд.
Занавес
Середина века. Москва. Май месяц.
Точнее – девятое мая 1955 года. Вот уже в десятый раз отмечаем мы День Победы – день славы и поминовения мертвых, день, когда вместе с гордостью за все то, что было сделано нами в годы Великой войны, возвращаются в наши дома старое горе и старая боль.
А май в тот год был теплым и солнечным. Толпы приезжих и москвичей неутомимо бродили по дорожкам Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, вновь открытой в Москве после многолетнего перерыва, уходили на целину комсомольские эшелоны – развевались знамена, гремели оркестры на привокзальных площадях, молодые голоса запевали старую песню – все ту же самую, что пели когда-то и мы, старшие, уезжая на Магнитку и в Комсомольск:
Наш паровоз, вперед лети,
в коммуне остановка!..
И все чаще и чаще в эту весну бывало так: люди встречались на улице, или в театре, или в метро и сначала, не обратив друг на друга внимания, равнодушно проходили мимо, а потом вдруг оборачивались, растерянно улыбались, и один, побледнев, но все не решаясь протянуть руку, бросался к другому и спрашивал, задохнувшись: «»Это ты?! Ты вернулся?!»
Москва живет вокзалами. И проводы в тот год были легкими и недолгими, а встречи начинались слезами.
Вечер. Над стадионом «Динамо» в светлом еще небе мирно, как шмель, гудит самолет.
Окна в комнате открыты настежь, и отчетливо слышно, как внизу, во дворе, галдят ребятишки, воинственно вопят коты и раздается веселое, нахальное треньканье велосипедных звонков.
Между двумя книжными полками, на одной из которых в черном футляре лежит скрипка, висит портрет Давида. На портрете ему лет двадцать – хмурое лицо с напряженно сжатыми губами склонилось к скрипке, тонкие пальцы уверенно держат смычок.