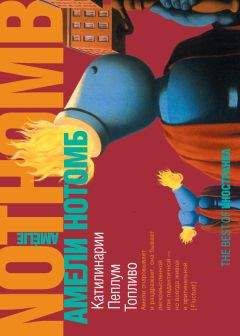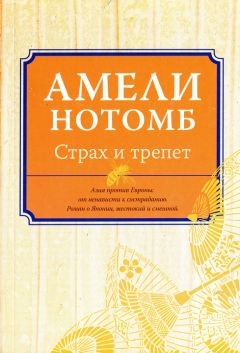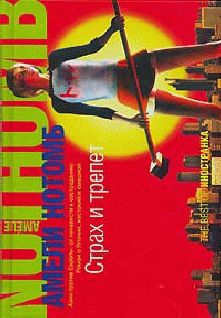– Есть новости из больницы?
– Да, ему уже лучше. Послезавтра его выпишут. Врачи пытались выяснить, что толкнуло его на этот шаг. Он ничего не ответил.
– Меня бы удивило обратное.
– Еще они спросили, намерен ли он повторить попытку. Он сказал «нет».
– В добрый час. А они знают, что он сам доктор?
– Понятия не имею. А что? Это что-нибудь меняет?
– Мне кажется, самоубийство врача должно привлечь особое внимание.
– Больше любого другого?
– Возможно. Ведь в каком-то смысле это нарушение клятвы Гиппократа.
– Расскажи лучше, как восприняла это Бернадетта.
Я поведал ей о последних нескольких часах и с особенным удовольствием живописал интерьер дома Бернарденов. Жюльетта фыркала от омерзения и хихикала одновременно.
– Как ты думаешь, мы должны о ней позаботиться? – спросила она.
– Не знаю. А вдруг от нас ей будет больше вреда, чем пользы?
– Надо ее хотя бы накормить. Давай отнесем ей суп.
– Жидкий шоколад?
– На десерт. И большую кастрюлю овощного супа на первое. Думаю, ест она много.
– То-то будет у нее праздник. Сдается мне, она проведет два чудесных денька, пока мужа нет.
– Как знать? Может быть, она его любит.
Я ничего не сказал, но про себя подумал, что любить Паламеда невозможно.
В Мове мы скупили чуть ли не весь запас овощей, что был в лавке, и, вернувшись из деревни, сварили целый котел супа. Я смотрел, как бурлит и бьется о стенки кастрюли овощной потоп, выплевывая на поверхность ошметки лука и сельдерея, – ни дать ни взять шторм на море с кружением водорослей и планктона. Я представлял себе будущее этой океанской баланды в утробе кисты: настоящий завтрак кита – и по качеству, и по количеству.
Около полудня мы с Жюльеттой понесли поднос за речку. Груз был тяжеловат даже для двоих: котел супа и кастрюлька шоколадного соуса. Войдя в кухню, моя жена залилась нервным смехом:
– Это еще хуже, чем я представляла по твоему рассказу!
– Вид или запах?
– Все!
На первом этаже никого не было. Мы поднялись наверх: мадам Бернарден так и лежала на тюфяке. Спать она не спала, но и ничего не делала: безмятежный покой заменял ей все занятия. Жюльетта кинулась к ней с соболезнованиями, искренность которых меня удивила:
– Бернадетта, я все время думала о вас. Я восхищаюсь вашим мужеством. Из больницы уже звонили: вашему мужу лучше, он вернется послезавтра.
Мы так и не узнали, поняла ли Бернадетта, да и слушала ли: она стерпела поцелуй моей жены, не сводя глаз с кастрюльки. Ее нюх безошибочно опознал содержимое. Только что такая спокойная, она заквохтала и потянулась щупальцами к предмету вожделения.
– Да, мы приготовили для вас два супа. Начать надо с большого, а второй на десерт.
Но туша и слышать ничего не желала. Что ж, в конце концов, без разницы, в каком порядке она будет есть. Жюльетта дала ей кастрюльку с соусом – соседка засучила ногами, захлюпала слюной. Щупальца сомкнулись вокруг сокровища и подняли его к ротовому отверстию. Она выпила содержимое одним глотком, урча и подвывая, точно помесь бородавочника с кашалотом.
Зрелище ее удовольствия было одновременно и отрадным, и омерзительным. Уголок рта моей жены улыбался, в то время как другой превозмогал тошноту. Киста поставила пустую кастрюльку, вылизав стенки до первозданной чистоты. Длинный язык высунулся еще раз, чтобы собрать капли с подбородка и усов. И тут произошло нечто в высшей степени трогательное: мадам Бернарден испустила вздох – долгий вздох блаженства с легкой примесью разочарования, оттого что счастье так быстро кончилось.
Жюльетта налила в миску овощного супа и подала ей. Бернадетта с любопытством принюхалась, попробовала языком – похоже, наша похлебка ей понравилась. Она вылакала ее, булькая, точно слив кухонной раковины.
– Надо было приготовить протертый суп, – сказала моя жена, увидев, что ошметки зелени, не попавшие в ротовое отверстие, повисли на подбородке, точно выброшенные прибоем водоросли.
Соседка между тем, звучно, по-мелвилловски, отрыгнув, улеглась на тюфяк. На миг мне почудилось в ее взгляде выражение королевы-матери, отпускающей своих подданных: «Благодарю вас, добрые люди, а теперь ступайте».
Она закрыла глаза и тотчас уснула. Ее храп сопровождался теперь звуками пищеварения, шумного, как стиральная машина. Все это было трогательно и тошно.
– Оставим кастрюлю и пойдем, – шепнул я жене.
На следующий день Жюльетта приготовила протертый суп.
Два дня кряду мы находили котел опустевшим, а мадам наполненной. Свою комнату она покидала только по нужде – слава богу, в этом ей не требовалось помогать.
– Если хочешь знать мое мнение, Бернадетта переживает сейчас самые счастливые дни в своей жизни.
– Ты так думаешь? – спросила жена.
– Да. Во-первых, твои супы, несомненно, лучше стряпни ее мужа, а поскольку еда – главное в ее жизни, эта перемена для нее чудо из чудес и настоящая революция. Но еще лучше – что мы оставили ее в покое. Я убежден, что Паламед силой заставляет ее вставать и спускаться в гостиную без всякой надобности.
– Зачем бы ему это делать?
– Чтобы отравить ей жизнь. Это его любимое занятие.
– Может быть, еще для того, чтобы помыть ее. Или переодеть.
Я рассмеялся, вспомнив ночную сорочку мадам Бернарден – гигантское платье из полиэстера в цветочек с кружевным воротничком.
– Как ты думаешь, может, нам ее выкупать? – предложила Жюльетта.
Мне на миг представилась ванна, полная белесой плоти.
– Давай лучше оставим это ее мужу.
На третий день позвонили из больницы: нам дали добро на воссоединение семьи.
– Я поеду один. Ты пока свари суп кисте.
За рулем машины я думал, какая это глупость – ехать за ним. «Надо было оставить его там», – вертелось в голове.
В больнице меня заставили подписать целую кипу каких-то непонятных бумаг. Неустрашимый месье Бернарден ждал меня в коридоре. Он сидел на стуле, придавленный вселенской тоской. При виде меня лицо его приняло давно знакомое мне недовольное выражение. Он ничего не сказал, поднял свою тушу со стула и последовал за мной. Я заметил, что в больнице никто не постирал его одежду, на которой так и остались следы рвоты.
По дороге в машине он тоже не проронил ни слова. Меня это вполне устраивало. Я рассказал ему, что мы кормили его жену в его отсутствие. Он не реагировал, ни на что не смотрел; не иначе, отравление газом лишило его и того немногого, что еще оставалось от умственных способностей.
День был чудесный, начало апреля, как его описывают в школьных учебниках, с распускающимися цветами, легчайшими, как героини Метерлинка. Я подумал, что, случись мне выжить после попытки самоубийства, такая дивная весна проняла бы меня до слез: вся эта просыпающаяся жизнь показалась бы напоминанием о моем собственном воскресении и примирила бы мою душу с этим миром, который не удалось покинуть.
Но Паламед, судя по всему, был далек от этого. Я никогда не видел его настолько сосредоточенным на себе.
Я остановил машину перед его дверью и, прежде чем уйти, спросил, не нужна ли ему помощь.
– Нет, – угрюмо буркнул он.
Стало быть, дар речи сосед сохранил – и был одарен ею все так же скупо.
Вопрос, вертевшийся у меня на языке, невольно сорвался с губ:
– А вы знаете, что это я спас вам жизнь?
И тут впервые месье Бернарден ошеломил меня красноречием. Нет, он не обновил свой словарный запас, но паузу и взгляд использовал, как заправский ритор. Устремив оскорбленные глаза прямо в мои, он молчал нестерпимо долго, а когда продолжительность моего апноэ показалась ему достаточной, сказал только одно слово:
– Да.
И, отвернувшись, вошел к себе.
Скованный ледяным холодом, я вернулся в Дом. Жюльетта спросила, как он себя чувствует.
– Как обычно, – ответил я.
– Сегодня я сварила больше супа, чем вчера. Я оставила его на виду, на столе.
– Очень мило, но впредь пусть справляются сами.
– Ты не думаешь, что ему будет приятно, если я стану готовить вместо него?
– Жюльетта, неужели ты еще не поняла: ему ничто не приятно!
На следующий день кастрюля стояла под нашей дверью; к содержимому не притронулись.
Это был отказ от дома.
Шли недели. Вопреки моим опасениям, сосед не пришел к нам ни разу. Он вообще носа не высовывал из дому. А между тем этот солнечный апрель был подобен вызову: мы с Жюльеттой часами просиживали в саду. У нас вошло в привычку обедать там и даже завтракать. Мы подолгу гуляли в лесу, где птицы исполняли нам «Весну священную» в обработке Яначека[9].
Паламед же выходил только для того, чтобы съездить на машине за покупками. Деревенская лавка была единственным социальным звеном его жизни.