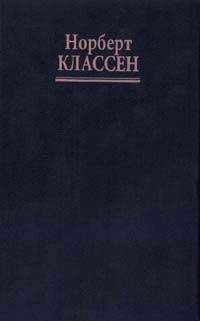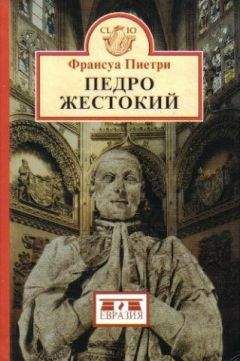В частности, ситуация «Много шума» имеет много общего с ситуацией «Отелло». Клавдио — благороднейшая натура, но слишком доверчивая, как Отелло, и чрезмерно пылкая, как и он. Оскорбленный контрастом между видимой чистотой Геро и примерещившимся ему предательством, он не знает меры в своем гневе и к отвержению невесты присоединяет еще кару публичного унижения (что, впрочем, соответствовало понятиям и нравам эпохи). Дон Хуан помимо естественного чувства обиды самой природой своей расположен ко злу: как для Яго невыносима «красота» существования Кассио, так и подлому бастарду нестерпимы благородство и заслуги Клавдио. Также и Геро, подобно Дездемоне, бессильно и безропотно склоняется перед незаслуженной карой как перед судьбой. Наконец, и Маргарита не лишена сходства с чересчур беспечной и бездумной, покорной мужу (или любовнику) Эмилией. Им обеим чужда моральная озабоченность, активная преданность любимой госпоже: иначе такое чувство предостерегло бы их и побудило бы предостеречь жертву.
Но мы здесь в мире доброй, ласковой сказки, — вот почему все кончается счастливо. И потому, заметим, все изображено бархатными, пастельными, а не огненными, жгучими тонами «Отелло». А отсюда — возможность стилистического слияния с двумя другими, комическими частями пьесы — не только с историей Беатриче и Бенедикта, но и с эпизодом двух очаровательных полицейских.
Вторая, комическая тема пьесы тесно связана с первой. Обе они дополняют друг друга не только сюжетно, но и стилистически. Первая в решительный момент переводит вторую в серьезный и реалистический план, тогда как вторая смягчает мрачные тона первой, возбуждая предчувствие возможной счастливой развязки. Возникает ощущение сложной, многопланной жизни, где светлое и мрачное, смех и скорбь не сливаются между собой (как в «Венецианском купце» или хотя бы в «Двух веронцах»), но чередуются, соседят друг с другом, подобно тому как в рисунках «белое и черное» оба тона оттеняют один другой силой контраста, придавая друг другу выразительность и приводя целое к конечному единству. Отсюда, при мягкости и гармонии речи этой пьесы, в ее конструкции и общем колорите есть нечто «испанское» (по жгучести и пылкости), напоминающее позднейшую «Меру за меру».
Взрыву любви Бенедикта — Беатриче предшествует долгая пикировка между ними, блестящее состязание в колкостях и каламбурах, которое похоже на войну двух убежденных холостяков, но на деле прикрывает глубокое взаимное влечение, не желающее самому себе признаться. Комментаторы, ищущие всюду и во всем готовых литературных источников, полагают, что кое-что в этой перестрелке навеяно такой же дуэлью остроумия между Гаспаро Паллавичина и Эмилией Пиа, описанной в книге Бальдассаре Кастильоне «Придворный» (1528), переведенной на большинство европейских языков, и в том числе на английский — в 1561 году. Книга эта, считавшаяся руководством благородного образа мыслей и изящных бесед, была, без сомнения, известна Шекспиру, и он мог мимоходом почерпнуть из нее несколько острот и каламбуров, вложенных им в уста Беатриче и Бенедикта. Но ситуация у Кастильоне совсем иная, не говоря о том, что кое в чем могли быть и просто совпадения. Существеннее то, что уже в целом ряде более ранних своих комедий Шекспир разрабатывал ту же самую ситуацию: поединок остроумия между молодым человеком и девушкой, предшествующий зарождению между ними любви. Довольно развернуто дана такая ситуации в «Укрощении строптивой», но еще более разработана она в «Бесплодных усилиях любви», где пара Бирон — Мария является прямой предшественницей пары Бенедикт — Беатриче.
Параллелизм этот, по-видимому, не случаен, ибо в том самом 1598 году, когда возникла комедия «Много шума», старая названная нами пьеса, написанная за четыре-пять лет до того, была не только поставлена на сцене придворного театра, но и издана кварто. Видимо, интерес к названному мотиву оживился к этому времени снова, и у Шекспира явилось желание разработать его еще раз, и притом углубленно, что он и сделал. Веселую сцену пикировки, лишенную в «Бесплодных усилиях любви» всякого психологического обоснования, он здесь насквозь психологизировал.
Прежде всего, Бирон у него совсем не является по самой своей натуре таким женоненавистником, как Бенедикт. С другой стороны, Розалинда далеко не так строптива, как Беатриче. Их перестрелка не выходит за пределы обычного поддразнивания и заигрывания, свойственных тому, что нынешние потомки Шекспира называют «флиртом». Но Беатриче — натура гордая и требовательная. Ей нужно, чтобы ее избранник не был ни молодым вертопрахом, ни человеком с увядшими чувствами, ищущим спокойного и удобного брака; ей нужен человек, который соединял бы в себе пылкость юноши и опытность мужчины. А где такого найти? И что если, делая выбор (а он, кажется, ею уже сделан!), ошибешься? Беатриче — натура сильная, мало чем уступающая Порции в «Венецианском купце». Она хочет научить уважать себя как человека. И потому из гордости она не выдает своих чувств, боясь насмешки, и приходит к отрицанию любви.
Как обычно бывает у Шекспира, он более тщательно, более заботливо исследует чувства женщины, обозначая чувства мужчины суммарно и лаконично, как более натуральные, более понятные зрителю. Но и в задорном упрямстве Бенедикта мы видим проявление его личного характера, нечто принципиальное, роднящее его с Беатриче: такое же благородство чувств и такую же сердечную гордость. Но последняя является вместе с тем и преградой, разделяющей их.
Однако несчастье, постигшее Геро, ломает эту преграду и, пробудив в юных сердцах их лучшие чувства: в ней — верность и твердость дружбы, в нем — способность к самопожертвованию, — бросает их в объятия друг друга. И одно мгновение кажется — такова композиционная тонкость пьесы, — что основное, серьезное действие только и существует для того, чтобы служить опорой второму действию, собственно комедийному. Горе — жалость — любовь: вот линия развития всей пьесы. В сравнении с этой мощной логикой чувств чисто подсобную роль играет та интрига, которая внешним образом приводит к желанному результату. Это тот же прием подслушивания, который явился пружиной и основного, трагического действия. Но только здесь прием подслушивания использован на редкость оригинально: заговорщики, шепчущие именно то, что они хотят довести до сведения влюбленных, заставляют последних вообразить, что они случайно подслушали разговор. Минус на минус в алгебре дает плюс; две перемноженные фикции в действительности дают истину. Закон шекспировской комедии: чем смешнее, тем трогательнее; чем иллюзорнее, тем правдивее.
Комическое (или комедийное) в этой удивительной пьесе перевешивает трагическое. Но, как все это нами было изложено выше, оно слишком абстрактно, ему недостает материальной плотности. Чтобы придать ее пьесе, Шекспир вносит в нее третью тему, элемент бытового гротеска: эпизод с двумя полицейскими. Эпизод этот имеет весьма реальное основание. Канцлер Елизаветы Берли в 1586 году писал другому ее министру Уолсингему в выражениях, весьма близких к тексту комедии, что Англия полна таких блюстителей общественного порядка, которые «сторонятся преступления, как чумы», предпочитая болтать, спать, пить эль и ничего не делать. Как мы видим, шекспировские зрители воспринимали эти образы не только как гротеск, но и как кусочек действительности. Поясним, между прочим, что Кизил и его собратья не являются полицейскими на королевской службе. Они принадлежат к той добровольной страже, которая создавалась корпорациями горожан для охраны порядка, особенно в ночное время. В такие стражи нанимались те, кто ни к какому другому делу не был приспособлен. Не случайно поэтому литература той эпохи полна шуток и острот по адресу безалаберных и нерасторопных людей, взявших на себя миссию охраны общественного порядка.
О том, что Шекспир списал образы стражников с натуры, сохранилось предание, записанное в 1681 году любителем старины Джоном Обри. «Бен Джонсон и он (Шекспир. — А. А.), — сообщает Обри, — где бы они ни оказывались, повседневно подмечали странности людей (humours)». И вот пример этого: «Характер констебля из „Сна в летнюю ночь“ он списал в Грендоне-на-Баксе, по дороге из Лондона в Стретфорд, и этот констебль еще жил там в 1642 году, когда я впервые направлялся в Оксфорд. Мистер Джоз Хоу из этого прихода знал его». Простим антиквару его ошибку — он спутал «Сон в летнюю ночь» с «Много шума из ничего», но предание, сообщаемое им, от этого не утрачивает своей ценности. Оно лишний раз подтверждает наше ощущение жизненности этих забавных фигур, введенных Шекспиром. Но, конечно, только Шекспир мог сделать их такими живыми в пьесе и так вплести в ее действие, что без них оно многое теряет в комизме.
Кизил — невероятно чванливый глупец, к тому же постоянно путающий слова. Желая придать себе как можно больше значительности, он любит пользоваться юридическими терминами, помпезными словами и выражениями, но, будучи малограмотным, все время впадает в ошибки. Его постоянный спутник Булава под стать ему.