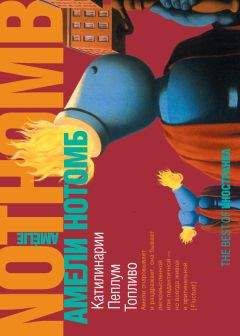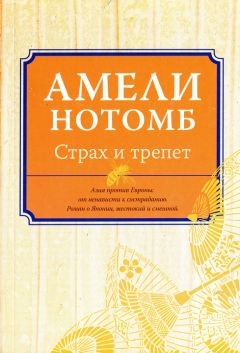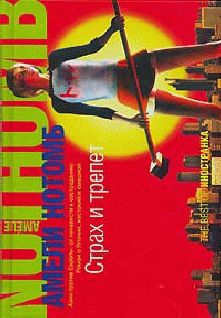– Вот именно! Ему посчастливилось жить в земном раю, на дворе весна, какая редко выдается, а он сидит дома.
– Бывают люди, нечувствительные к таким вещам.
– К чему же он, по-твоему, чувствителен?
– К часам, – улыбнулась она.
– Верно. Он любит часы, как Смерть свою косу. И снова встает тот же вопрос: чего он ждет, почему не повторит попытку самоубийства?
– Можно подумать, что ты сам этого ждешь не дождешься.
– Нет. Я просто стараюсь его понять.
– Одно могу тебе сказать, Эмиль: даже если человек хочет умереть, наложить на себя руки – это, должно быть, очень страшно. Я читала воспоминания одного парашютиста: он говорит, что сильней всего боялся перед вторым прыжком в пустоту.
– То есть, ты думаешь, что он не повторяет попытку из страха?
– Это по-человечески объяснимо, не так ли?
– В таком случае, ты представляешь, в каком бедняга отчаянии? Он хочет умереть и больше не находит в себе мужества свести счеты с жизнью.
– Так я и думала: ты хочешь, чтобы он это сделал!
– Жюльетта, чего я хочу, не имеет никакого значения. Важно, чего хочет он.
– А ты не прочь ему помочь, признайся!
– Да нет же!
– Тогда почему ты об этом заговорил?
– Чтобы ты перестала мерить его участь своей меркой. Тебе вбили в голову, что жизнь – величайшая ценность.
– Даже если бы мне не вбили это в голову, я бы все равно так думала. Мне нравится жить.
– И ты не можешь себе представить, что есть такие люди, которым жить не нравится?
– А ты не можешь себе представить, что люди меняются? Он еще может полюбить жизнь.
– В семьдесят лет?
– Это никогда не поздно.
– Ты неисправимая оптимистка.
– Ты сказал, что самоубийцы склонны к рецидиву. Тебе не кажется, что весь род человеческий склонен к рецидиву?
– «Род человеческий склонен к рецидиву» – поэтично, но я не понимаю, о чем ты.
– Нет ничего на свете, что человек делал бы только раз. Если человек однажды что-то сделал, значит, это заложено в нем от природы. Каждый из нас всю жизнь повторяет одни и те же поступки. Самоубийство – лишь частный случай. Убийцы снова убивают, а влюбленные снова влюбляются.
– Не знаю, насколько это верно.
– А я в этом уверена.
– Значит, ты думаешь, что он опять попытается покончить с собой?
– Я думала не о нем, Эмиль, а о тебе. Ты его спас. И ты спасешь его еще раз.
– Как я могу его спасти?
– Не знаю, – ответила она и добавила, просияв улыбкой: – Это не мое дело. Ты спаситель, а не я.
С тех пор как я солгал ей о письме с якобы бранью, Жюльетта смотрела на меня почти как на Мессию. Это, признаться, раздражало.
– В сущности, Жюльетта, мы с тобой идиоты. Зачем из кожи вон лезть, стараясь помочь человеку, которого мы терпеть не можем? Даже христиане не заходят так далеко в любви к ближнему.
– Мы любим Бернадетту. Пока Паламеду плохо, он будет вымещать зло на жене. Единственный способ помочь несчастной – спасти ее мужа.
– Спасти – от чего?
Отпылал пожар дрока. Наступил черед глициний.
Быть несчастным в июне так же неприлично, как быть счастливым, слушая Шуберта. Этот месяц поистине невыносим: на протяжении тридцати дней малейшая хандра убеждает в собственной невоспитанности. Счастье по принуждению – сущий кошмар.
Положение усугубляют глицинии. Я не знаю более душераздирающего зрелища, чем глициния в цвету: эти синие грозди, обливающие слезами изгибы ствола-лианы, лишают меня жизнерадостности и словно в насмешку превращают в ламартиновского страдальца. Когда я был маленьким, по воскресеньям меня возили к бабушке. Стена ее дома была увита глицинией. В июне этот синий дождь разрывал мне сердце. Я и тогда, не понимая почему, горько рыдал, сам сознавая, что смешон.
От глицинии есть противоядие – спаржа, еще один дар июня. Я давно заметил, что невозможно горевать, когда на столе спаржа. Беда в том, что нельзя есть ее двадцать четыре часа в сутки.
А в этом начале июня мне понадобилось бы очень много спаржи, чтобы утолить мои печали. Ночами я смотрел на спящую Жюльетту, как смотрел Христос на своих учеников в Гефсиманском саду: ей от рождения были даны душевный покой и вера в жизнь, и она полагалась на меня как на хранителя этих двух даров, в которых мне, увы, отказано.
Бессонными ночами мне не лежалось. Я выходил в сад. От ночной прохлады я таял, от вида глицинии расклеивался окончательно. Воспитанные японцы пишут друг другу письма, в которых идет речь только о цветущих в данный момент растениях; все остальные смеются над этим обычаем, считая тему слишком незначительной. Доведись мне родиться японцем, я, наверно, блистал бы в эпистолярном жанре: этот формализм позволил бы мне незаметно для всех изливать на бумаге чувства сентиментальной барышни.
Уравнение не сходилось: Жюльетта требовала, чтобы я спас месье Бернардена. Но по моему глубокому убеждению, только смерть могла освободить его из пожизненной тюрьмы. Моя жена, однако, не хотела его смерти. А если бы даже и хотела, он, похоже, раздумал умирать.
Глядя на цветущую глицинию, я принял решение, мне самому показавшееся ужасным: отныне я смирюсь с тем, что мы с Жюльеттой больше не понимаем друг друга.
Случай воплотить это решение в жизнь представился на следующий же день. Я увидел машину соседа – он возвращался из деревни. Я тотчас поспешил ему навстречу.
– Паламед, мне нужно с вами поговорить.
Не проронив ни слова, он вставил ключ в замок багажника, но так и не открыл его. Он стоял, застыв истуканом, возле машины.
– Вы получили мое письмо?
Пятнадцать секунд паузы.
– Да.
– И что вы подумали?
– Ничего.
Красноречивый ответ.
– А я потом много думал об этом. И хочу вам сказать, что подтверждаю: если вы повторите попытку, я не стану вам больше мешать.
Молчание. Я продолжил:
– Да, я поразмыслил и понял вас, Паламед. Теперь я знаю, что для вас это единственный выход. Мне было трудно это признать, потому что меня всегда учили совсем другому. Ну, сами знаете: «Жизнь человеческая – высшая ценность, отнять жизнь никто не вправе…» Благодаря вам я понял, какой это вздор: нельзя судить, не зная человека, как и обо всем в этом мире. Вот вам жизнь не впору пришлась – это ясно. Клянусь вам, я зол на себя: я поздно это понял и сожалею, что вытащил вас из гаража.
Молчание весом в тысячу тонн.
– Я, конечно, догадываюсь, что вторая попытка дается много труднее первой. И все же, пусть это не покажется вам странным, я пришел поддержать вас в этом начинании. Да, Паламед. Я знаю, такой поступок требует силы духа, которой у меня нет; но я – дело другое, я люблю жизнь. Вас же я заклинаю: решайтесь.
Сам того не замечая, я заговорил с пылом, воодушевляясь, как Цицерон, произносящий первую Катилинарию[11].
– Подумайте только, что будет, если вы этого не сделаете. Так продолжаться не может. Посмотрите на себя: вашу жизнь и жизнью-то нельзя назвать! Вы – скопище страдания и скуки. Хуже того, вы – пустота. А пустота страдает, как просветил нас на этот счет Бернанос. Вы, конечно, его не читали, вы никогда не читаете, вы вообще никогда ничего не делаете. Вы – ничто, и, наверное, всегда были ничем. Меня бы это не тревожило, будь вы одиноки, но это не так: вы отыгрываетесь за ваш злой удел на жене, которая, хоть и на женщину-то не похожа, во сто крат человечнее вас. Вы держите ее взаперти, хотите втянуть ее в вашу пустоту. Это низко. Если не можешь жить, не притесняя кого-то, – лучше не жить вовсе.
Мне стало хорошо. Пламень ораторского искусства окрылил меня, наполнил силой.
– Что вы собираетесь делать сегодня, Паламед? Хотите, я расскажу вам, как пройдет ваш день? Сейчас вы занесете покупки в дом, рухнете в кресло и будете смотреть на все ваши часы, пока не придет время обедать. Вы приготовите отвратительное варево, накормите им Бернадетту и обожретесь сами, хотя есть вы не любите, тем более такую гадость. Потом вы снова развалитесь в кресле и до вечера будете провожать взглядом время, которое идет и движет маленькую и большую стрелки.
Далее – новое пищевое испытание, затем вы ляжете в постель, и это будет худший момент вашего дня: я догадываюсь, что вы, как и я, страдаете бессонницей, и если мои бессонные ночи тяжки, то каковы же ваши? Бессонница жирного борова, который изнывает от скуки и даже не надеется на спасительный сон, потому что спать он не любит. Ведь вы не любите ничего, Паламед Бернарден! А когда ничего не любишь – лучше умереть! И не говорите мне, что у вас, врача, не найдется в аптечке каких-нибудь пилюль, которые могут вам в этом помочь. Это проще, чем выхлопные газы. Мужайтесь, Паламед! Всего и нужно открыть рот, проглотить упаковку таблеток, запить стаканом воды, лечь – и все будет кончено! Ни скуки, ни пустоты, ни стряпни, ни часов, ни жены, ни бессонницы! Ничего больше не будет, а поскольку не будет и вас, вы этого даже не осознаете. Это ваше спасение, Паламед, спасение! На веки вечные!