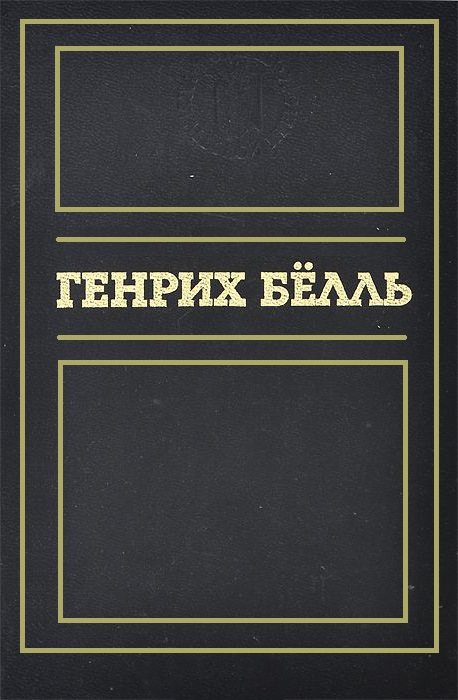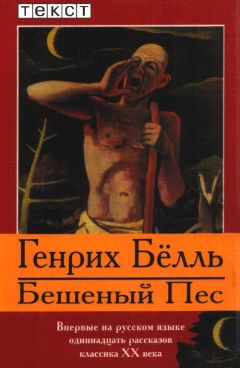двоих, — сказал начальник станции и, не спрашивая разрешения, взял с ладони Ласнова щепоть табака.
Они оба стояли у входа в вокзал и курили, глядя на улицу, обрамленную киосками, лотками и грязными брезентовыми палатками: все было серого, коричневого или бурого цвета, даже детская карусель не веселила яркими красками.
— Как-то раз моим детям, — прервал молчание начальник станции, — подарили картинки для раскрашивания. На одном листе был напечатан готовый пестрый рисунок, а на другом — только его контуры. Но у нас не было ни красок, ни цветных карандашей, и дети замазали все контурные рисунки сплошь одним черным карандашом. Вот когда я гляжу на наш базар, я вспоминаю эти рисунки: видно, в мире нет больше красок, есть только простой черный карандаш — все серо, грязно, черно…
— Да, — вздохнул Ласнов. — Времечко… ни черта не заработаешь… Единственное, что можно теперь достать для обмена, — это кукурузные лепешки у Рухова, по ты ведь знаешь, как он их фабрикует.
— Еще бы не знать — прессует сырые кукурузные зерна, а потом смазывает свои лепешки подкрашенным растительным маслом, чтоб они выглядели поджаристыми.
— Ну ладно, — сказал Ласнов, — пойду погляжу, может, что-нибудь удастся сделать.
— Если повстречаешь Копа, скажи, что ему пришел здоровенный ящик.
— Ящик? С чем?
— Не знаю. Из Одессы. Я пошлю мальчишку с тележкой к Копу. Так ты ему передашь?
Все время, пока Ласнов не спеша шел по базару, он поминутно оглядывался в сторону вокзала, не везет ли мальчишка ящик, а всем встреченным рассказывал, что для Копа из Одессы прибыл ящик. Слух быстро распространился по базару, обогнал Ласнова, и когда Ласнов, наконец, медленно направился к ларьку Копа, слух катился к нему уже с той стороны. Ласнов подошел к карусели, хозяин как раз впрягал в крестовину лошадь; морда лошади была измождена голодом, это придавало ее облику благородство и напоминало Ласнову ту голодающую монахиню, которую он видел в детстве; ее лицо тоже было худым и темным, облагороженным лишениями; ее показывали в темно-зеленой палатке на ярмарке и за вход плату не брали, зато у выхода сидел человек с тарелкой и просил пожертвовать на монастырь. Хозяин карусели подошел к Ласнову и зашептал ему в ухо:
— Ты слышал о ящике, который получил Коп?
— Нет, — ответил Ласнов.
— Говорят, там игрушки, заводные автомобильчики.
— А я слышал, будто там одни зубные щетки.
— Нет, нет, — горячо возразил хозяин карусели, — там игрушки.
Ласнов погладил лошадь по носу и медленно поплелся дальше, с болью думая о том, какие дела он мог бы провернуть в другое время. На своем веку он купил и продал такое количество одежды, что мог бы экипировать целую армию, а теперь докатился бог весть до чего: мальчишка-щенок ухитрился всучить ему зубную щетку! Он продавал бочками растительное и сливочное масло, свиное сало, а в рождественские дни всегда держал ларек и торговал длинными, с карандаш, леденцами, окрашенными в яркие цвета, такие же пронзительно-едкие, как радости и печали бедняков: красные, как любовь, которую справляют в подъездах или под фабричными заборами, окутанными горько-сладким запахом патоки; желтые, как пламя в мозгу пьяницы; или светло-зеленые, как боль, которую испытываешь, когда, проснувшись рано утром, глядишь и не можешь отвести глаз от лица спящей жены, этого детского лица, защищенного от жизни только красноватыми веками — ненадежными заслонками, которые ей приходится поднимать всякий раз, как дети начинают плакать. Но в этом году не было и леденцов, и в рождество Ласнов с женой и детьми будет сидеть дома, хлебать жидкий суп и по очереди глядеть на свет сквозь прозрачную ручку зубной щетки.
Возле карусели какая-то старуха составила два стула и на этом самодельном прилавке открыла торговлю: она продавала два матраца с клеймом магазина «Лувр», замусоленную книжку под названием «Путеводитель по железной дороге от Гельзенкирхена до Эссена», комплект английского иллюстрированного журнала за 1938 год и маленькую жестяную коробочку, в которой когда-то была лента от пишущей машинки.
— Хорошие вещи, — сказала старуха подошедшему Ласнову.
— Да, вещи что надо, — подтвердил он и хотел было идти дальше, но старуха вдруг кинулась к нему, притянула к себе за рукав и зашептала:
— Для Копа прибыл ящик из Одессы с рождественскими подарками.
— Да ну? А что в нем?
— Пестро раскрашенные сахарные фигурки, резиновые звери с пищалками. Вот будет весело!
— Это точно, — сказал Ласнов, — будет весело.
Когда он, наконец, дошел до ларька Копа, тот, сгрузив с тележки свой товар, как раз расставлял его по полкам: щипцы для угля, чугуны, железные печки, старые ржавые гвозди, которые он собственноручно вытаскивал из бросовых досок и выпрямлял. К ларьку Копа стянулся почти весь базар, онемевшие от волнения люди глядели в сторону вокзала. Коп устанавливал каминный экран, на котором была изображена китаянка, окруженная золотыми хризантемами.
— Начальник станции велел сказать, что на твое имя прибыл ящик. Его сейчас привезет сюда мальчишка, который вечно болтается на станции.
Коп взглянул на Ласнова, вздохнул и тихо произнес:
— И ты… Ты тоже об этом…
— Что значит «тоже»? — возмутился Ласнов. — Я иду прямо с вокзала, чтобы тебе сообщить…
Коп боязливо поежился. Одет он был, как всегда, чисто: серая меховая шапка, в руках трость, которую он при ходьбе с силой вонзал в землю и, как единственное воспоминание о лучших днях — небрежно зажатая в углу рта сигарета, обычно погасшая, потому что у него никогда не было денег на табак.
Двадцать семь лет назад Ласнов, дезертировав из армии, вернулся в деревню и принес весть о революции. Коп в то время был комендантом вокзала в чине фенриха [149], и когда Ласнов во главе солдатского совета явился на вокзал, чтобы арестовать Копа, тот не пожелал даже ради спасения своей жизни сделать незначительное движенье губами и выплюнуть сигарету, хотя видел, что взгляды всех прикованы к уголку его рта. Коп ждал, что его расстреляют, но Ласнов только влепил ему здоровенную оплеуху и вышиб сигарету у него изо рта. А без сигареты он выглядел мальчишкой, не выучившим урока, и они оставили его в покое. Сперва он был учителем, потом занялся торговлей, но и до сих пор, встречая Ласнова, боялся, что тот опять вышибет у него изо рта сигарету. Коп поднял на Ласнова испуганные глаза, подвинул немного каминный экран и сказал:
— Если бы ты только знал, сколько человек мне это уже сообщили!
— Экран для камина! — удивленно воскликнула какая-то женщина. — А где взять теперь тепло, от которого загораживаются этим экраном?
Коп кинул на нее презрительный взгляд.
— У вас нет