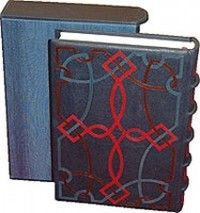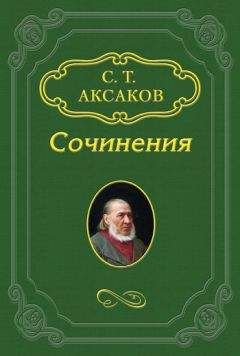В основе такого мироощущения лежит идея природы, как всегда только доброй силы (Физис Рабле, противопоставляемый им Антифизии, т. е. всему ложному и извращенному, злому), вера в доброту человеческой природы. Вспомним рассуждение Рабле о том, что все естественные влечения человека законны и что, если только их не насиловать, они приведут лишь к действиям разумным и моральным. Ренессансные гуманисты, настроенные идиллически, верили, что достаточно красноречивого увещевания или горячего призыва, чтобы побудить людей «отбросить эгоизм и начать помогать друг другу» — и тогда жизнь сразу станет прекрасной и счастливой. Такое утопически реформированное общество мы не раз встречаем в комедиях Шекспира его раннего (но не второго!) периода. Вспомним V акт «Венецианского купца», где все «благородные» и «великодушные» персонажи пьесы, собравшись вместе в загородном доме Порции, наслаждаются благоуханной лунной ночью, внимая «музыке небесных сфер», недоступной «черным душам», вроде Шейлока, или блаженную жизнь, какую ведут в Арденнском лесу изгнанники в «Как вам это понравится» (см. особенно сцену II, 1), или, в известном смысле, беспечно и безобидно веселящуюся компанию (сэр Тоби Белч, Мария и др.) в «Двенадцатой ночи».
Этому ренессансному гуманизму «истина» представляется как некий вполне достижимый абсолют, для овладения которым требуется лишь добрая воля, энергия и удача («фортуна»).
Этот мир «Декамерона» и юношеских поэм-романов Боккаччо, мир Лоренцо Великолепного и Полициано, Ариосто, Клемана Маро и Бонавентуры Деперье («Веселые забавы»), первых двух книг Рабле, поэм Эдмунда Спенсера, лирических комедий и ранних трагедий (как, например, «Ромео и Джульетта») Шекспира, — если можно так выразиться, планиметричен.Он не совсем плоский и имеет свои выступы и возвышения, как барельеф, но, по существу, лишен третьего измерения — глубины. В этом мире для достижения истины или счастья надо только долго и энергично плыть в верно найденном направлении, как доплыли Колумб или Васко да Гама до желанной гавани. Этот мир Ренессанса безбрежен и, следовательно, бесконечен во всех направлениях. Такой безбрежности, однако, было достаточно для возникновения чувства неисчерпаемости жизни и бытия, идеи неиссякаемой «фортуны» — идеи, столь характерной для авантюрного периода буржуазного общества. Это чувство питалось великими открытиями эпохи и смелой ликвидацией средневековых догм, производимой рациональным путем, логически, в свете показаний человеческих чувств и разума. Это ренессансно-гуманистическое мироощущение в своей прекрасной наивности было насквозь оптимистично и, можно сказать, идиллично. Оно притом было индивидуалистично и эгоцентрично в своем упоении жизнью и ее раскрывающимися для личности беспредельными возможностями.
Однако, провозгласив освобождение человеческой личности, такое мировоззрение оказалось неспособным решить практически вопрос о формах организации общества и государства, где идеал свободы мог быть реализован. При первом столкновении с действительностью — с силами феодально-католической реакции и с практикой первоначального накопления — его прекрасные иллюзии рухнули. Это должно было привести отнюдь не к капитуляции гуманизма вообще, а лишь к перевооружению его для дальнейшей, более суровой борьбы, к преодолению ренессансного «прекраснодушия», к выработке более глубокого (чем раннеренессансное) гуманистического мировоззрения, а именно — расширенного и более критического понимания человеческой личной человеческих отношений. И эти последние и человеческая личность начинают теперь раскрываться в их сложности, противоречивости и развитии.
Важнейшей вехой здесь является учение Монтеня о человеческом "я", которое едино, но не единообразно, которое полно противоречий беспрерывно изменяется, приспособляясь к окружающим условиям и приспособляя их к себе, способно к бесконечному развитию. Стоящее в тесной связи с этим монтеневское que sais-je? (что я знаю?) — не капитуляция разума, а признание того, что истина, благо и счастье не окостеневшие формулы, а путь, искание и борьба.
Аналогичное изменение происходит и во взглядах на человеческое общество, иначе говоря, на государство. Последнее понимается теперь как сочетание противоположностей, лежащих в разных плоскостях, как сложная, беспрерывно развивающаяся конструкция, как единство разнородных и частью противоречивых сил, в котором общее благо осуществляется посредством гармонической координации частей и подчинения частных интересов потребностям целого.
Так же, наконец, представляется теперь и мир, взятый в целом, этот «макрокосм», сложный и многопланный. Сокращенным подобием его является государство (сравнение, нередкое у Шекспира: см., например речь Улисса в «Троиле и Крессиде», I, 3), а еще более сокращенным — человеческое "я", этот «микрокосм» (как говорит Лир, «малый мир, именуемый человеком», IV, 6, 137). Такой мир, такое государство и такая личность способны не только к росту или изменению, но и к трансформации (см., в отличие от «вырастающих» Джульетты или Ромео, трансформации, происходящие с Гамлетом, Лиром, Эдгаром, Макбетом, Кориоланом, Клеопатрой). Мир (как общество, так и человек) приобретает глубину, становится стереометричным:это вечно меняющееся, многопланное, по существу, бездонное целое.
Это новое восприятие мира и человека, преодолевающее ренессансную упрощенность и прекраснодушный догматизм, могло получить двоякого рода направленность в зависимости от того, кем оно использовалось — прогрессивными силами (в частности, гуманизмом) или реакцией.
В эту эпоху систематических усилий церкви поставить все достижения светской мысли на службу своим собственным интересам реакция не преминула, конечно, использовать эту новую концепцию и человека в своих целях. Прежде всего, идея «однопланности» истины была здесь подменена учением о «множественности» ее. Старая дуалистическая доктрина (добро и зло, вера и знание, земная жизнь и небесная, realio и realiora) оказалась превосходной подготовкой и как бы частным случаем утверждаемого теперь плюрализма. Получалось, что «истин» (или, соответственно, норм, ценностей, критериев) могло быть и более, чем две, например: 1) мир практических интересов; 2) мир идеальных сублимированных чувств (в литературе — позднерыцарские и пасторальные романы); 3) мир опытной науки; 4) мир рациональной философии; 5) мир религии.
Такой плюрализм (или дуализм) бывал и у людей Возрождения: вспомним душевную борьбу у Петрарки или рецидивы религиозно-аскетических настроений у Боккаччо. Но ими это переживалось как тяжелый внутренний конфликт, требующий разрешения. В позднем Ренессансе, к концу XVI века, такая двойственность переживается спокойнее, и объективный смысл ее — в размежевании критериев (норм, ценностей) духовных и материальных, истины религиозной и истины, даваемой рациональным и эмпирическим знанием, в целях обеспечения второй из них полной автономности и, следовательно, возможности свободного развития (Бэкон, Шаррон и т. д.)
Теперь же мы имеем совсем другую концепцию. Две или даже несколько противоречивых истин вызывают у человека чувство трагической расщепленности сознания, полной душевной растерянности. От раскрывшихся глубин мира и человеческой психики, от ощущения их бездонности человека охватывало головокружение; он испытывал настоятельную потребность в том, чтобы свести все это к единству, но сам, собственными силами не в состоянии был это сделать. Все недостоверно, все превращается в хаос. И тут является услужливый духовник, берущий растерявшегося человека за руку и выводящий его из лабиринта. Истин много, но все они условны и относительны. Настоящая же, абсолютная истина только одна — истина религиозная, по отношению к которой все остальные «истины» занимают служебное положение. Жизнь и все связанное с ней «есть сон» — не совершеннейшая иллюзия, но относительная, не полная реальность, которую можно и должно принимать ради практических надобностей, даже ради наслаждения, но которую надо всегда быть готовым отклонить, отодвинуть на задний план ради единственной «подлинной» истины религиозного откровения. Отсюда возникающее во второй половине XVI века знаменитое учение иезуитов о «двух истинах», нашедшее такое интересное полемическое отражение в шекспировском «Макбете» 20. Но подобную же доктрину можно найти и у протестантов — у некоторых представителей «метафизической» школы и особенно у доктора Брауна, учившего о существовании «высшей» религиозной истины, господствующей над истиной «низшей», земной. Все это не исключало струи гедонизма, но с отмеченным уже выше оттенком. На этой почве вырастает искусство «классического барокко», широко использующее все вышеописанные приемы этого стиля. Искусству этому чрезвычайно свойственны мистическая эротика, манящий ужас наслаждения, чувство «греховности» человека («Севильский озорник» Тирсо де Молины, лирика испанских мистиков, драмы ужасов и сладострастия Уэбстера и Форда и т. п.).