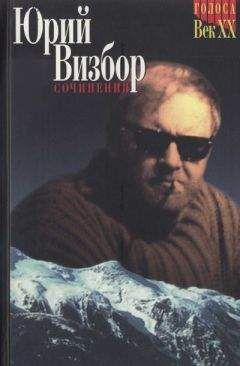— Ну и что он, пустой, что ли?
— Да что вы! В этом одиночном доме такая краля живет — пальчики оближешь! «Живет моя отрада в высоком терему». Вот как раз про этот дом. Да вы разве не видали — она утром через поляну шла?
— Шел кто-то…
— Вот это она и есть. Девица вполне соответствует требованиям танково-технической службы. Только, по-моему, малолетка. Но у нас есть такое правило: шапкой не сшибешь — и годится!
Ох, не был бы я его командиром!! Я б с ним объяснился!
— У кого это — у нас?
— У нас в округе. Я к ней в окошечко стучусь, она отворяет. Здрасьте, говорю, гражданочка, пакли у вас, случаем, не найдется? Она говорит, есть. Вынесла. Ну, раз рыбка клюет, надо тащить! Где, говорю, вечера проводите? Танцы здесь вроде негде устраивать, а одной дома скучно. А она так это промолчала… ну точно, намекает. Мы с ней минут двадцать потрёкали… — Шурик поднял глаза и замолчал. — Ну чего ты, чего? — спросил он.
— Рядовой Ткаченко, все это мне не нравится. Почему вы пристаете к гражданскому населению?
— Да кто к ней пристает? Нужна мне эта девица, как зайцу лыжи, Костя!
— Я вам не Костя, а сержант товарищ Рыбин!! Прошу обращаться по уставу! Вам здесь что, летний парк или учения?
— Здесь учения, — ответил Шурик, знавший, что перечить начальству — последнее в армии дело.
— Так вот, чтобы к этому дому на пушечный выстрел не подходить!
— Слушаюсь!
Шурик стоял с кислой физиономией, индифферентно рассматривая облака и сильно морща нос. Это была его любимая позиция, когда его отчитывали.
— Кругом, шагом марш!
— Слушаюсь!
Повернуться так, как этого требовал строевой устав, Шурик не мог, мешали маскировочные ветки. Он уже вошел в то обиженное состояние, когда начинал подчиняться подчеркнуто, очевидно, полагая, что этим он сильно досаждает приказывающему… Я-то тоже хорош! Целое утро подшучивал — то да се и «под бок к лесничихе», а тут как с цепи сорвался…
Издалека нарастал ужасающий гул. Солнце спряталось за облако, пригнулась трава. Рябь пошла по воде. Из-за поворота дороги медленно выползал дизельный мастодонт с огромными ветровыми стеклами. Сзади него на циклопических черных колесах тянулась стратегическая ракета. Вот это сюрприз! Ну, ребята, прощайтесь с вашей ракетой. Доложу я о ней, вызовут звено истребителей-бомбардировщиков и прямо на дороге раскромсают вашу драгоценность. Вот здесь, в вашем «глубоком тылу». Я передал шифровку. Через двадцать минут где-то за моей спиной уже грохотали страшные взрывы — это два звена «наших» самолетов проходили звуковые барьеры, напав на ракету…
Вскоре Шурик, поджав губы, принес мне обед, грустно спросил: разрешите идти? Переживает скандал. Все-таки как-никак мы с ним товарищи… с первого дня службы вместе. Ладно. Я ему не поп, но эту девчонку он не тронет… А, собственно говоря, кто я такой, чтобы решать эти вопросы? А вдруг у них любовь?.. Нет, любовь на почве расколотого полена не наступает… Разве?.. Что-то я запутался. Но, во всяком случае, у меня есть два устава — дисциплинарный и комсомольский, и я требую с Шурика «товарищеского отношения к женщине». (Сразу все стало ясно. Вот как важно найти параграф!)
Ага, вот и приехала моя ундина! Идет через поляну. Ну, слава Богу, вернулась. Я глупо заулыбался. Над травами плывет голубая косыночка… ну обернись же, обернись!.. Нет. Косыночка плывет себе и плывет, на крылечко и в дом… Так… Вот что — у меня есть прекрасный повод для знакомства. Счастливая мысль!
— Вайнер!
Вместо Вайнера дверь открыл Шурик.
— Вайнер спит, товарищ сержант, будить?
Ишь ты! «Товарищ сержант». Не как-нибудь. Шурик — сама покорность и исполнительность.
— Раз спит, не будите… Вот что, Ткаченко, вы сможете здесь подежурить минут десять? Делать ничего не надо — наблюдайте в окно и фиксируйте военные машины.
— Слушаюсь, — мрачно сказал Шурик.
Я вышел из машины, расправил гимнастерку, поправил пилотку, из-под пилотки у меня, как у сержанта, торчал клок рыжих волос. Так что было чем гордиться… Я отошел от машины, как бы проверяя ее маскировку, потом боком, боком, вдоль леса к дому. Дом большой, срублен по-северному, в два этажа. Только старый очень. Крыльцо старенькое, подгнившее. Стучу, а сердце прыгает, как после кросса. Если из родителей кто откроет, то насчет погоды потолкую, то да се… придумаю. За дверью шаги. Она! Да еще с ножом в руках! Ну и за бандитов она нас считает! Я резиново улыбнулся и вдруг совершенно неожиданно для себя сипло сказал:
— Приятно познакомиться!
Я хотел сказать что-нибудь другое. Нейтральное. Вроде «здравствуйте, хозяйка». Или — «добрый вечер». А уж потом, когда разговор закончится, надо было сказать — «приятно было познакомиться». Это не навязчиво и вместе с тем намекает на некоторое чувство. Ну не чувство, а на легкую симпатию.
— Здравствуйте, сержант, — сказала девушка. Она сказала это именно так, как хотелось сказать мне самому, — спокойно и независимо. Надо было как-то реабилитировать себя. Я напрягся и, почему-то заикаясь, сказал:
— В-в-вечер сегодня х-хороший…
И, кажется, сильно покраснел. Во всяком случае, ушам стало жарко. Да. Такого позора я еще никогда не испытывал. Мало того, язык мой, как неоднократно и справедливо отмечалось — враг, действовал совершенно отдельно от меня, по своей и довольно пошлой программе.
Девушка прислонилась к косяку двери и иронически рассматривала меня, поигрывая ножиком.
— Ну и что из этого? — спросила она.
Я совершенно не представлял какой из этого может последовать вывод, тем не менее довольно бойко сказал:
— Из этого вот что…
Ну, ну, ворочайся там, во рту, раз ввязал меня в это дело!
— Я зашел, во-первых, познакомиться, а во-вторых, попросить вас, чтобы все осталось в тайне.
Девушка удивилась:
— От кого?
— Ото всех! — твердо сказал мой язык.
Началась какая-то оперетта.
— Но я вас совсем не знаю, — сказала девушка.
— Это не важно, — с достоинством сказал я, — главное, чтобы об этом никто не узнал.
— О чем?
— Ну вот обо всем. Я ж вам говорил.
— Вы мне ничего не говорили.
— Да??
— Да, ничего.
— Вот как… странно. Мне казалось, что я говорил. Ну вот о том, что мы находимся здесь, — это тайна.
— Ах вот что…
Она хотела подбочениться, да в руке ножик у нее. Увидела — улыбнулась.
— Это я картошку чищу.
— Для получения калорий? — сострил мой язык.
— Нет, поджарить хочу.
Я почему-то взял из ее рук ножик. Это был обыкновенный кухонный ножик, ничего особенного.
— Острый, — как идиот, сказал я.
— Батя точил.
Я вернул ей нож, с ужасом обнаружив, что рука моя потеряла всякую гибкость и двигается так, словно сделана из двух поленьев.
— Тут к вам утром мой один солдат приходил, вы уж извините, если что не так… больше не повторится.
— Да что вы, — засмеялась девушка, — он ничего такого не говорил. Только паклю спросил, я ему дала. Он только жутко покраснел и ушел. Я как раз тоже уходила. Молчаливый какой-то парнишка.
Я не знал, верить ли своим ушам.
— Да, — сказал я, — он у нас мрачноват. По строевой подготовке у него плохо. И после некоторого случая молчит. Замкнут в себе.
После какого случая Шурик «замкнут в себе», я просто не представлял.
— После какого случая?
— В танке он горел, — сказал я, — но чудом спасся.
Почему я стал врать — непонятно.
— У нас тоже пожар лесной был в прошлом году, — сказала девушка, — с самолетов водой гасили.
Я решил не продолжать свой мюнхгаузенский цикл.
— Значит, договорились. О нас никому ни слова.
— Да. Вы только скажите своим солдатам, чтобы они лес молодой не рубили. Пусть сухостой берут, а живое не трогают.
— Все будет в порядке.
Потом я решил сострить:
— Разрешите идти? — и вытянулся по стойке «смирно».
Несмотря на очевидную глупость моих действий, девушка вытянула руки по швам и сказала:
— Идите, сержант!
Я не могу сказать — «мы рассмеялись». Она улыбнулась, а я по-гусарски заржал и, кажется, подмигнул ей. Слетев с крыльца, я вспомнил свою заветную фразу — за девушкой уже закрывалась дверь.
— Приятно было познакомиться! — крикнул я.
Но дверь закрылась, и, приятно ли было ей со мной познакомиться, я так и не узнал. Несмотря на это, я прилетел к машине таким счастливым, что Шурик дымом поперхнулся.
— Полевая кухня проехала, товарищ сержант.
— Вы где дрова берете?
— В лесу, товарищ сержант.
— Я сам понимаю, что в лесу, а не в реке. Вы молодняк, случаем, не трогаете?
— Избави Бог! Приказ по армии знаем.
— Учтите, Ткаченко, чтобы не было ни одной порубки.