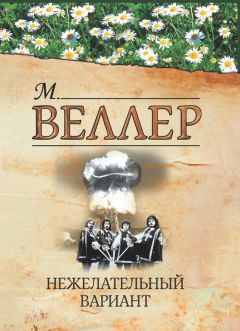Ну че. Привезли в солярной бочке воды, дали они нам всем попить первым делом; а потом нас всех – в бэтээры – и на аэродром. Раненых – в госпиталь.
И ни хуя мне даже медали не дали. Ни отпуска домой, ни хуя. Нескольким ребятам дали «За отвагу», летёхе – Красную Звездочку, а большинству – ни хуя. Благодарность в приказе. Всему строю. И подписку о неразглашении.
…Это все нам рассказывал наш сундук-сержант, каптерщик полковой. Четырнадцать лет в армии. Мужику за тридцать, уже лысеет, брюшко такое отрастил, а здоровый – что ты. Две двухпудовки берет ручками вниз – и двадцать раз жмет.
Так что когда объявили десантуре боевую готовность – очко, конечно, сыграло. Кто их знает, куда сунут. Нам ведь только что все время внушается? что кругом враги, заговоры, агрессоры, верить никому нельзя, жди чего угодно.
Выдали паек на три суток, триста патронов, пять гранат.
А нам в танковой роте – полную боеукладку, баки под пробку, две двухсотлитровых бочки солярки – на бортовые подвески снаружи на броню. Пэтэшки.
На аэродром, по две машины – в Ан-12, и сутки там сидим.
Потом оказалось:
С вечера по международному воздушному коридору проходил наш рейсовый Ан-24 Киев – Берлин. И на подлете к Брно он передал на диспетчерский пункт: прошу срочную посадку, на борту острый больной, нуждается в срочной операции. Чехи дали добро.
Самолет сел, к нему сразу вызванная скорая помощь, больного погрузили и увезли. Пока то да се, аэропорт большой, работает, самолет зарулил на стоянку, пассажиры вышли и отправились в аэровокзал. Все больше молодые ребята, со спортивными сумками, тренер покрикивает, у них соревнования срываются, бросились звонить в Берлин в оргкомитет, экипаж звонит в Киев: в общем, отложили вылет до утра. Самолет вне расписания, его надо воткнуть в график, пассажиры пока разбрелись, кто дремлет, кто пиво пьет.
И вдруг в три часа ночи диспетчеры видят на экранах, что входит в зону и приближается целая воздушная колонна, армада в звено по три… Что такое?! Кто такие?!
А на запрос командуют по-чешски: срочно очистить полосу, прекратить выпуск и прием любых самолетов, в экстренном порядке принять колонну.
Кто, откуда, почему?! – Правительственный приказ, особое задание, исполнять.
Тут есть над чем задуматься, но думать им оказалось некогда. Потому что ребята с вечернего Ан-24 оказались уже вооруженными группами именно в тех местах, где надо. Блокировали вокзал и аэродромную технику, все выходы на поле и подходы к полосе, а первым делом ворвались в радиоузел и диспетчерскую. Полностью взяли аэропорт под контроль, чтоб, значит, никто уже не мог помешать. Четкая работа.
Чехи, однако, ребята ведь тоже ничего, когда-то они и немцев били, на топот насторожились, черт-те чем пахнет! тревога! Устроили в дверях свалку, успели аппаратуру разбить, рубильники замкнуть, предохранители сгорели, погасло везде, темнота полная, никакого навигационного обслуживания, никакого наведения – умер аэропорт.
А небо уже гудит, ломится, первый Ан-12, огромный пузатый транспортник, заходит прямиком на полосу, посадочные фары включены – и спокойно садится.
Первым бортом садился лично командир дивизии, генерал-майор Остапов, и следом – интервал одна минута! – садится вся дивизия.
Из первой машины тут же выкатываются «газоны» с десантниками и мчатся к зданиям, из второй выезжает электростанция и врубает прожектора, заливает все светом, и через сорок минут вся дивизия уже на земле, машины заруливают на основную стоянку, на запасную, на рулежную площадку – каждый экипаж знает свое место и очередь, отрабатывалось, и очищают место следующим, открываются аппарели и бэтээры несутся в рассветный город – занимать телевидение, радио, железнодорожный и автовокзалы и тому подобное. Последний самолет еще садится – а с первого уже мчатся по городу указанным на подробной карте маршрутом, благо улицы пустые.
Через два часа город был взят – без единого выстрела. Вот так это делается – если по-настоящему, всерьез и с подготовкой. Так что – не надо: умели, умели.
Тот Ан-24 был летающим диспетчерским пунктом. Он ко времени вырулил в перспективу полосы и давал пеленг по радиомаяку, обозначившись бортовой подсветкой. А четверо с фонарями обозначили начало посадки и направление.
Блестяще была операция спланирована, и блестяще проведена.
Ну, а наутро чехи просыпаются – ах! что такое: город занят русскими. Что, как? вот так… уже все, и совсем не больно.
На самом деле больно им было, конечно. Плакать стали, плакаты писать: «В 45 – освободители, в 68 – оккупанты». Поначалу на тротуарах собирались, в дискуссии пытались вступать, листовки совали. Я говорю: «Какой же я оккупант. Если б я был оккупант – я бы спал в твоем доме с твоей женой, а ты бы спал на улице. А так ты спокойно спишь в своем доме со своей женой, а я сплю на голой земле под танком».
Потому что в Чехословакии была контрреволюция, у них уже было готово обращение к НАТО, и если б мы туда не вошли – через сутки вошли бы западные немцы. И дело могло запахнуть Мировой войной. Вот потому так это было в секрете подготовлено и спланировано, и четко и молниеносно проведено. Мы вошли, все заняли, а соваться на открытое столкновение с нами ФРГ, конечно, уже не могла – это война с нами сразу. [10]
А ведь это – немцы. Лучшие вояки в мире. Там ведь не только мы были – и румыны, и венгры, и немцы из ГДР. И когда пошли все беспорядки, бучи, бутылки с зажигательной смесью кидали, листовками закидывали – только в немецкой зоне был абсолютный порядок.
Немцы с ужасным удовольствием произносили (как это есть немецкое специальное такое слово?): «Мы вторглись в Чехословакию». Вот входит немецкая колонна – откуда-то выстрел. Шар-pax из всех стволов в этом направлении – только брызги летят в стороны! Тихо? то-то; поехали дальше.
Заходят – вот им нужна водоколонка. Вокруг колонки проводят по асфальту белый круг: это – запретная зона. Где-нибудь сверху торчат часовые. Кто приближается – «Цурюк!». Заходит за черту – очередь.
И все. Полный порядок был в немецкой зоне. Это они умеют. [11]
– Ну? а ты чего?
– Чего-чего… Прострелили бочки с соляркой, что на броне, мать их еб. Потом еще накинули одеяло на триплексы. А потом еще сука какая-то кинула бутылку, бля. Ну, и загорелись. Встал я, все равно ничего не видно, дым в машине, горим на хуй. Стреляют ни стреляют, выскакивать надо. Я люк открываю, на нем одеяло, стягиваю его, а там стреляют. Ну, мы еще сколько-то времени дым поглотали внутри – выскочить-то недолго, может наши отгонят их, наконец. А ни хуя-то, бля.
Выскакиваю – а кругом асфальт горит. Солярка на него хлещет со всех дыр и горит, и асфальт уже плавится и горит: озеро.
Ну че. Прыгнул – и прилип с ходу. Прилип – и упал на четыре кости. И у меня сразу сапоги горят, и руки горят, и комбинезон горит.
А на руки сразу асфальт налип комьями – и горит, и ноги тоже, и сапоги, колени, все. Напалм, понял!
Ну, жить захочешь – пойдешь. Быстро! горишь! давай! вот я в запале, встать сразу трудно, то ли как, то ли на четвереньках, с рук мясо горящее с кусками асфальта отрывается, пошел тягом-скоком. До тротуара, газон, давай по траве кататься.
А там бабы визжат, страшно все же, как люди так горят живьем, и сам я ору, где уж ребята – не знаю, не до того. Ну, стали они гасить меня сами, все же не такие звери, чтоб вот так, когда увидишь-то рядом, хотеть нас живьем сжигать. Ну, погасили…
Вот такой историей знакомился с нами Чех. Это у нас он Чех, а звали его в миру Санька Колбовский. Безвреднейшее существо. Механик-водитель плавающего танка.
Плавать ему в том танке не пришлось ни разу, даже на учениях, а погореть довелось. И то, танкисты знают: танк сделан, чтоб гореть, а не плавать.
Рук и ног у него не осталось, но мозги от этой термической обработки, похоже, получшали. По совокупности сих двух причин из живых его, естественно, списали.
Теперь-то ему немного стыдно за свои взгляды. Не то чтобы раскаивается – солдат есть солдат, и кто солдатом не был, тот солдата не поймет. Да даже не стыдно. Обидно. «Суки, что вы со мной сделали. Я же пацаном был, я ж не понимал, что я мог…»
Примечательно: чехов он любит, и за врагов их не считает.
«Они нас знаешь как любили. Что ты. Плакали. „Мы, – говорят, – вас любили, как братьев, а вы что?“ Легко, думаешь, такое слушать? Они ведь к нам не лезли, в конце концов. И пусть бы себе жили, хули нам за дело».
– Что ж ты тогда на их сторону не перешел?
– Да пошел ты… Я че был? – я солдат.
– Вот и досолдатился.
– Ты на себя-то погляди, обрубок.
………………………………………
Все старухи были красавицы, все старики – удальцы.
Что, интересно, сказал бы милый наш Санька-Чех, если б ему сказали, что ни в каком танке он не горел? ни в какую Чехословакию не вступал? а заснул по пьяни на трамвайных путях.
Будущее неопределенно, настоящее диктуют обстоятельства, а вот над прошлым человек волен – думает-думает, вспоминает-вспоминает, грезит-грезит, и в результате устраивает себе такое прошлое, какое ему больше всего хочется, как ему роднее по нраву и уму.