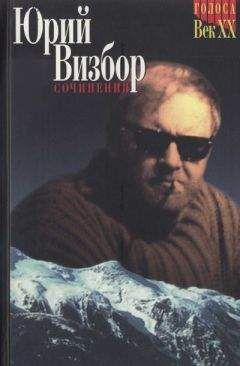Ужасная догадка поразила меня.
— Это старичок на мотопеде?
— Да, — сказала Таня, — он старый уже, ноги больные, а почты много.
— Ткаченко! — закричал я.
Шурик тут же показался в двери.
— Отдай письмо.
— Какое письмо? — невинно спросил Шурик.
— Давай, давай, — сказала нетерпеливо Таня, — мне дядя Захар все рассказал.
— Ах, письмо… — Шурик полез в карман гимнастерки и вынул треугольный конверт без марки.
— От А. Метелкина, — сказал он.
— Да, — сказала Таня, — от А. Метелкина.
Она схватила конверт, посмотрела штамп.
— Шесть дней шло, — сказала она.
— Да, — сказал я, — почта плохо работает.
— Спасибо, ребята, — сказала Таня и вышла из машины.
— Мы тебе дрова наготовили, — сказал Шурик.
— Спасибо.
Она пошла по поляне, развернула письмо и читала его на ходу, спотыкаясь о кочки. Я посмотрел на Шурика — тот отвел глаза.
— Ну что, — сказали, — врезать тебе?
— Перестань, мы хотели как лучше!
— Серьезно, — вдруг сказал Вайнер, который, как оказалось, стоял около машины, — мы видим, как ты переживаешь, а тут этот старикан привозит письмо ей от жениха. Ну мы решили притырить его. Чтоб тебе расстройства не было.
— Хвакт, — сказал Шурик, — мы ж видели, какое дело разгорается!
— А отец у нее в больнице лежит, она к нему каждое утро ездит.
— Ефрейтор Вайнер!
— Ну вот, я к тебе как к человеку, а ты — «ефрейтор Вайнер»!
— Ефрейтор Вайнер, идите отдыхать!
— Слушаюсь!
Сеня ушел, а Шурик все топчется.
— Может, что не так вышло, товарищ сержант…
— Иди, иди…
…Днем по дороге шло много войск. Шли бронетранспортеры, танки, ракеты, пушки. Они отступали. Над ними неслись самолеты. Над этими самолетами летали другие самолеты, кружились парами в голубом небе, оставляя белые инверсионные следы. Со всех сторон грохотала артиллерия. Это шел к нам фронт. Вовика уже так хорошо было слышно, что я убавил громкость почти до минимальной… Мои мальчики переживали за меня. То Шурик заглянет — ключ ему в бардачке понадобился, то Сеня насчет связи интересуется. Все глядят — как я, чтобы я чувствовал плечо друга. Ладно. Спасибо. И о том, что случилось, — ни слова. Только Сеня сказал — «Смотри, Седачом не стань!» Ах да, Седач… Действительно… Есть в нашей роте такой чудак. По вечерам в «личное время» этот маленький курносый парень шел в радиокласс, садился в угол и писал письма. Каждый день. Писал и никуда не отправлял. Все в роте давно знали, что девушка, которую любил ефрейтор Седач, вышла замуж. И все же Седач писал ей каждый день письма и складывал их в тумбочку. Потом, когда старшина Кормушин брал связки их двумя руками, словно намереваясь выбросить ввиду непорядка в тумбочке, Седач нес письма в свой чемодан в каптерку. И никто в роте не смеялся над ним. Только рядовой Дубчак иногда заходил в класс и говорил Седачу: «Нет, Седач, я тебе серьезно советую отослать письма в Союз писателей. Ведь у тебя скоро на роман наберется. Большие деньги будешь иметь, а?» Седач отворачивался от него, не отвечая, не сердясь, только все скрипел ручкой. Все в роте понимали Седача. Один Дубчак смеялся. И за это его все ненавидели…
Да, скорей бы наши пришли! Ну чего они там, резину тянут? Надо поднажать как следует — и все!
И мои молитвы сбылись! Вечером по мосту загрохотали плавающие танки разведроты. Я получил приказ свертываться. Я выполнил свою задачу и был уже никому не нужен. Ну, давай, дорога, гони меня от этих мест! Я уеду под другие небеса, где не летают летающие тарелки, где не видать мигающих спутников, где идет караульная служба и снег падает на снег! Шурик с Сеней свернули палатку, размаскировали машину, вывели ее на середину поляны. Вдруг с дороги вездеход — и к нам! Комбат приехал. С кузова Вовик пилоткой машет.
— Достойнейший сеньор! — кричит он.
Мне не до шуток, но традиция не может быть нарушена.
— Что скажешь, Яго? — спрашиваю я.
— Когда вы сватались к сеньоре, знал ли Микелио Кассио вашу к ней любовь?
— Нет, не знал, — сказал я.
— Это не по тексту, — удивился Вовик.
— Я знаю, — сказал я. — Это не по тексту. Это по жизни.
Комбат, кончивший с кем-то переговоры по радио, наконец вышел из машины, я доложил ему по форме. Мой отъевшийся экипаж стоял навытяжку. Комбат поздоровался со всеми.
— Сержант Рыбин, — сказал он, — действиями вашего экипажа очень доволен командующий. Объявляю вам от его имени благодарность, а от своего — краткосрочный отпуск на родину на десять суток с дорогой!
— Служу Советскому Союзу!
— Досталось вам тут?
— Один раз, — сказал я.
— Костя! — Я стоял навытяжку перед комбатом, но все обернулись. — Костя!
Таня звала! Она стояла недалеко от нас в пальтишке, накинутом на плечи.
— Я на минутку, — сказал я комбату и медленно пошел к Тане. Медленно! Как только мог.
— Вы уже уезжаете?
— Да. Мы уезжаем. А это — командир нашего батальона.
— Представительный, — сказала Таня.
Пауза.
— А я за вас дрался…
— С кем? С этим, который в танке горел?
— Нет, тогда, два года назад, в эшелоне. На станции Ламбино. Только вы меня не помните. Темно было.
— Вот бывают совпадения! — сказала Таня.
— Ну, до свидания, Таня.
— До свидания, Костя.
Мы пожали друг другу руки.
— А ваш Метелкин — принц? — спросил я.
Она серьезно посмотрела на меня и очень серьезно сказала:
— Да. Принц.
— Ну и прекрасно.
И мы разошлись в разные стороны.
— Сержант Рыбин, — сказал комбат, — несмотря на успехи, достигнутые вами, вынужден сделать вам замечание. Ваш внешний вид меня еще удовлетворяет, но внешний вид вашего экипажа!.. Посмотрите!
В самом деле, Сеня стоял перед подполковником в мятой гимнастерке, подворотничок грязный, сапоги не чищены. Шурик, изрядно поковырявшийся в моторе, вообще был похож Бог знает на кого: весь измазан, на лице черные пятна, под носом масляная полоса наподобие усов.
— Вы что, Ткаченко, в танке горели?
— Так точно, — гаркнул Шурик, — но спасся чудом!
И он покосился на меня — мол, как просил, так и ответствую. Комбат удивленно поднял брови.
— Странно, — сказал он, — ну ничего, в части разберемся. По машинам!
Мы снова расставались с Вовиком, не успев перекинуться и парой слов. Он только спросил меня:
— Любовь нечаянно нагрянет?
— Расскажу все.
Заработали моторы, поехали машины, только след от колес остался в густой траве от осенних учений…
Уже в эшелоне перед отправкой Шурик разыскал меня — я лежал с Вовиком на нарах вагона, рассказывал обо всем.
— Товарищ сержант, — сказал Шурик, — там на аккумуляторах букет у вас лежит. Так я его выброшу.
— Выбрасывай.
— Засох он весь.
— Выбрасывай.
Через четыре дня, вернувшись в свою часть, я разыскал ефрейтора Седача. Тот стоял перед умывальником, фыркал, смывая с плеч и головы мыльную пену.
— Здравствуй, Слава, — радостно сказал я.
— Здравствуйте, товарищ сержант, — удивленно сказал Седач, глядя на меня свободным от мыла глазом.
— Ну, как дела, как настроение?
— Все в порядке, товарищ сержант.
— Ну, отлично!
Я бесцельно прошелся по пустому умывальнику, поглядел на себя в зеркало, снова подошел к Седачу, который все стоял в той же позе с прищуренным глазом.
— Мойся, мойся, — сказал я, — я просто так…
— Понятно, — сказал Седач.
Я вышел из умывальника и видел в зеркало, как Седач удивленно пожал плечами и снова стал мыться, наверно, соображая, что бы все это значило, потому что за два года службы мы не сказали друг другу и двух слов. И вообще он был из другого взвода…
* * *
О Наставления и Уставы, правила заполнения радиограмм и каноны станционно-эксплуатационной службы! О, шифрованные донесения, пароли и отзывы, о, короткий язык эфира, где чувства спрессованы в три кодовые буквы, а приказы замурованы в пятизначные группы цифр! Таинственный ночной эфир полон жизни, переплетения судеб выстреливаются с антенн в ночную пустоту, в лесные запахи папоротников и крики болотных птиц. Будь же благословен голос человека, обращенный к другому человеку, выскребаемый четырехметровым штырем антенны из черных глубин эфира, из мешанины джазов, политики, метеосводок! И волчий грохот помех, как стена, вырастающий между тобой и другом. И коварные кружева полярных сияний, превращенные наушниками в равнодушный, ничем не пробиваемый шум. И пение умформеров под столом, и мигание контрольной лампочки над головой, и гигантская тень от прыгающей руки на стене. Купы ночных пепельных облаков формируются в тяжелые легионы для предстоящих гроз. И за тридевять земель поет усталая женщина. И капитаны рыбацких судов переговариваются странными словами — кухтыли, бобинцы… И инженеры самолетов сообщают на весь мир количество топлива на борту. И светятся во всем мире шкалы и риски, крутятся ручки, подгоняемые пальцем к нужной частоте, и горит свет в радиорубках и радиоцентрах, освещая все, что лежит на столе радиста, — бланки радиограмм, слова, слова… Будьте благословенны позывные друга среди ночи!