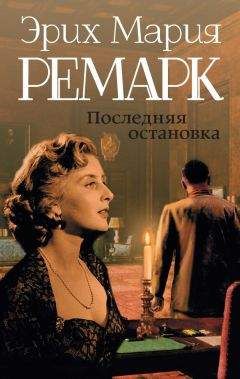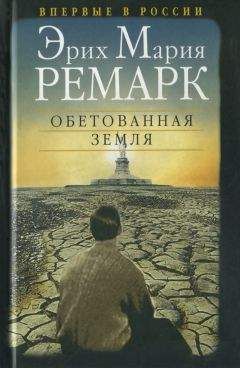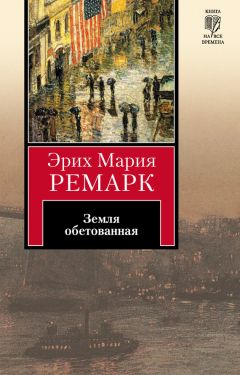полно всякого хлама, мы сами толком не знаем, что там валяется. Вы что-нибудь смыслите в этом деле?
– Кое-что. Думаю, на разборку и каталогизацию меня хватит.
– Где вы учились?
Я достал свой паспорт. Силвер глянул на графу «Профессия».
– Антиквар, – сказал он. – Так я и думал! Коллега, значит. – Он допил свой кофе. – Пожалуй, вернемся в магазин.
Мы снова перешли улицу. После поливальной машины она уже почти успела высохнуть. Солнце пекло, в воздухе парило и воняло выхлопными газами.
– А бронза – это ваш конек? – спросил Силвер.
Я кивнул.
– Бронза, ковры, ну и еще кое-что – по мелочи.
– Где вы учились?
– В Брюсселе и Париже.
Силвер предложил мне черную тонкую бразильскую сигару. Ненавижу сигары, тем не менее я ее взял.
Я распаковал бронзовую вазу из пергаментной бумаги и еще раз посмотрел на нее при свете солнца. На короткий миг во мне снова всколыхнулась паническая тоска безмолвных ночей в гулких залах музея; я поставил вазу на столик возле витрины.
Силвер наблюдал за мной.
– Я скажу вам, что мы можем сделать, – заявил он наконец. – Я покажу эту бронзу владельцу «Лу энд Компани». Он, сколько мне известно, на днях как раз возвращается из Сан-Франциско. Сам-то я мало что в этом понимаю. Согласны?
– Согласен. А как насчет работы? Разборка, каталогизация?
– Что вы скажете об этой вещи? – спросил Силвер, указывая на столик, куда я поставил бронзу. – Хорошая, плохая?
– Посредственный Людовик Пятнадцатый, вещь провинциальная, старая, бронзовая отделка новая, – отчеканил я, в глубине души благословляя покойного Зоммера, который, как и всякий истинный художник, любил старину.
– Неплохо, – похвалил Силвер, поднося мне огня для моей бразильской сигары. – Вы знаете больше меня. По правде говоря, нам этот магазин по наследству достался. Нам – это моему брату и мне, – пояснил он. – Мы были адвокатами. Но адвокатская жизнь не для нас. Мы люди честные, не какие-то крючкотворы. А магазин получили всего несколько лет назад и еще много чего не знаем. Но нам нравится! Это все равно что жить в цыганской кибитке, только кибитка стоит на месте. И даже кондитерская есть напротив, откуда так удобно наблюдать за собственной лавочкой, спокойно поджидая клиентов. Вы меня понимаете?
– Еще как.
– Магазин стоит на месте, зато улица движется беспрерывно, – продолжал Силвер. – Чистое кино. Тут всегда что-нибудь случается. Нам это занятие куда милей, чем защищать негодяев и вымогать согласия на разводы. Да оно и приличнее. Вы не находите?
– Безусловно, – откликнулся я, втайне дивясь адвокату, который считает торговлю искусством куда более честным ремеслом, чем право.
Силвер кивнул.
– У нас в семье я оптимист. Я Близнец по гороскопу. А брат пессимист. Он типичный Рак. Магазином мы владеем вместе. Поэтому я еще должен посоветоваться с ним. Вы согласны?
– Как я могу не согласиться, господин Силвер?
– Хорошо. Зайдите дня через два, через три. Мы тогда и о бронзе будем знать поточнее. Сколько вы хотите получать за свою работу?
– Столько, чтобы хватало на жизнь.
– В отеле «Ритц»?
– В гостинице «Мираж». Там чуть-чуть дешевле.
– Десять долларов в день вас устроят?
– Двенадцать, – осмелел я. – Я заядлый курильщик.
– Но только на несколько недель, – предупредил Силвер. – Не дольше. В торговом зале нам помощь не нужна. Тут нам-то с братом вдвоем делать нечего. Вот почему в лавочке, как правило, дежурит только кто-то один. Это тоже одна из причин, по которой мы за это взялись: мы хотим зарабатывать, а не урабатываться насмерть. Я прав?
– Конечно.
– Даже странно, как хорошо мы понимаем друг друга. А ведь почти не знакомы.
Я не стал объяснять Силверу, что, когда одна из сторон только поддакивает, взаимопонимание дается удивительно легко. В магазин зашла дама с перьями на шляпе. Она вся шуршала. Видимо, на ней было сразу несколько шелковых нижних юбок. Юбки шелестели и похрустывали. Дама была сильно накрашена и весьма овальных очертаний. Этакий пожилой постельный зайка с пудинговым лицом.
– У вас есть венецианская мебель? – поинтересовалась дама.
– Разумеется, и притом самая лучшая, – заверил ее Силвер, тайком давая мне знак удалиться. – До свиданья, граф Орсини, – обратился он ко мне чуть громче обычного. – Завтра утром мы доставим вам мебель.
– Но не раньше одиннадцати, – предупредил я. – От одиннадцати до полудня в «Ритц». Au revoir, mon cher.
– Au revoir [20], – ответил Силвер с сильным акцентом. – В одиннадцать тридцать, как часы.
– Хватит! – не выдержал Роберт Хирш. – Хватит с нас! Ты не возражаешь?
Он выключил телевизор. Самоуверенный диктор с ослепительными зубами и жирным лицом вещал с экрана о событиях в Германии. Мы о них уже слышали по двум другим программам. Самодовольный, сытый голос стал затихать, а изумленное лицо провалилось в темноту, накатившую от краев экрана к центру.
– Слава Богу! – выдохнул Хирш. – Главное достоинство этих ящиков в том, что их всегда можно выключить.
– Радио лучше, – заметил я. – Там, по крайней мере, не видишь диктора.
– Ты хочешь послушать радио?
Я покачал головой.
– Уже ни к чему, Роберт. Все сорвалось. Не воспламенилось. Это была не революция.
– Это был путч. Военными затеянный, военными подавленный. – Хирш смотрел на меня своим светлым, полным холодного отчаяния взглядом. – Это был мятеж в своем кругу, среди специалистов. Они поняли, что война проиграна. Хотели спасти Германию от разгрома. Это был патриотический мятеж, не человеческий.
– Эти вещи нельзя разделять. К тому же это был мятеж не одних военных, там и штатские были.
Хирш помотал головой.
– Можно разделять, еще как можно! Продолжай Гитлер побеждать на всех фронтах, и ничего не случилось бы. Это был не мятеж против режима головорезов – это был мятеж против режима банкротов. Они восстали не против концлагерей, не против того, что людей тысячами сжигают в крематориях, – они подняли мятеж, потому что Германия в опасности.
Мне было жаль его. Хирш мучился иначе, чем я. Его жизнь во Франции в куда большей степени вдохновлялась смесью праведного гнева, сострадания и жажды приключений, чем просто моралью и пошатнувшимся мировоззрением. На одной морали он бы далеко не уехал – мигом угодил бы в ловушку. А так он, сколь это ни странно, в чем-то оказывался с нацистами почти на родственном поприще, только превосходя их. Нацисты, хоть и лишенные совести, все равно оставались моралистами, ибо были навьючены мировоззрением – гнусной черной моралью и кровавым черным мировоззрением, пусть оно и сводилось к слепому рабскому послушанию и всемогуществу любого приказа. По сравнению с ними Хирш даже имел преимущество: вместо полной боевой выкладки у него за плечами был легкий полевой ранец, и