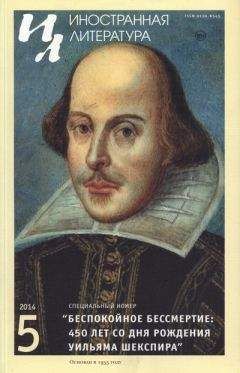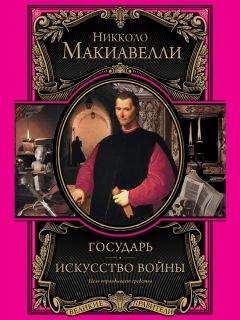Единственная власть, у которой, пожалуй, нет пределов в драмах Шекспира, — это власть самого художника. Там, где царит его суверенный гений, могущество абсолютно и ничем не стеснено. Тем не менее в своих сочинениях Шекспир постоянно задавался вопросом о том, обладает ли он или кто-либо иной тем, что можно было бы назвать эстетической автономией. И самый убедительный ответ на этот вопрос, как мне представляется, дает Просперо в «Буре», когда ломает свой волшебный жезл и просит прощенья:
Все грешны, все прощенья ждут,
Да будет милостив ваш суд[7].
Слова Просперо звучат в самом конце пьесы и к тому же незадолго до конца долгого, сложного творческого пути самого Шекспира, создавшего великое множество пьес. На разных этапах этого жизненного странствия Шекспир, движимый своим удивительным пониманием человека, обнаружил красоту в странном и единичном, разоблачил ненависть, порождаемую «инаковостью», разоблачил мораль власть имущих и постиг пределы собственной свободы…
Грэм Грин
Доблесть нелояльных
Речь на вручении Шекспировской премии в Гамбургском университете, 1969 г.
© Перевод В. Голышев
Тема, которую я предлагаю сегодня утром — доблесть нелояльных, — думаю, не привлекла бы нашего поэта. Если есть величайший поэт консерватизма, того, что мы называем теперь истеблишментом, то это, безусловно, Шекспир. Свою замечательную поэтическую историю Англии он начал с «Генриха VI», который был почти так же близок к его времени, как война 1870 года — к нашему, и дальше двигался вспять, осторожно отступая от опасного настоящего, от Англии заговоров и преследований, в прошлое. Отец Шекспира был католиком и не признал авторитета государственной церкви, но я могу вспомнить только одну строку, где Шекспир критически отзывается о Реформации, — метафору в сонетах, истолковать которую нетрудно: «Голые разрушенные хоры, где недавно сладко пели птицы»[8].
Одно слово постоянно звучит в ранних пьесах Шекспира — слово «мир». Во время политических волнений правящим кругам симпатичен этот идеал мира.
Божий тихо спящий мир[9].
Тебя, что в бедном мире мир разрушил[10].
Мир как ностальгия по утраченному прошлому: у Шекспира, как у отставного губернатора колонии, мир ассоциируется с твердым управлением.
Мир предвещает тишину, любовь,
Почтение к законной высшей власти[11].
Когда он насмехается над беднягой Джеком Кедом и его повстанцами-крестьянами[12], мы возмущаемся этим буржуазным поэтом, сподобившимся герба и большого дома в Стратфорде, и порой устаем даже от великих трагедий, где чудесная красота стиха притупляет жало, а последние строки исцеляют все раны, и законную высшую власть восстанавливают Фортинбрас, Малькольм и Октавий Цезарь. И тогда мы склонны обратить против него упрек, брошенный в адрес Антонио в «Венецианском купце»:
Печетесь слишком вы о благах мира.
Кто их трудом чрезмерным покупает,
Теряет их[13].
Конечно, он величайший из поэтов, но мы живем в такие же беспокойные времена, как он, времена, когда умирают тираны, времена покушений, заговоров и пыточных камер, и потому нам иногда ближе огненный гнев Данте, отвращение к себе Бодлера и кощунства Вийона, поэтов, отважившихся раскрыть себя, невзирая на опасности, — а опасности были очень реальные. Первый был изгнан, второго судили за оскорбление морали, а третий, возможно, угодил на виселицу.
И сегодня мы думаем о Пастернаке, Даниэле, Синявском, Гинзбурге[14] в России, о Роа Бастосе[15], беженце из Парагвая, Йоргосе Сеферисе, мужественно протестующем в Греции. В этом списке героев Шекспир не показывается, и все же, все же… хочется верить, что, если бы он прожил чуть дольше, нашлось бы там место и ему. Мы немного устаем от искусственной проблемы принца датского (инцест матери, убийство отца — нам не так легко приложить это к своему опыту), и молодой самоубийца вряд ли будет размышлять так подробно в виттенбергском духе над дилеммой «Быть или не быть». Но в последние годы у него все же прозвучала нота возмущения, как у Данте и Вийона, — в речах двух персонажей, которых мне хочется рассматривать как одного составного — Тимона-Калибана:
Меня вы научили говорить
На вашем языке. Теперь я знаю,
Как проклинать[16].
Если бы он прожил еще несколько лет, мы могли бы увидеть, как великий поэт истеблишмента перейдет на сторону нелояльных, на сторону поэта Саутвелла[17], у которого вынули внутренности за так называемую государственную измену, на сторону тех, кто по натуре своей всегда будут «разрушать мир в бедном мире», — Золя, написавшего «Я обвиняю», Достоевского перед расстрельной командой, Виктора Гюго, изгнанного, подобно Данте, русских писателей в лагерях.
Тому, что их правители считали нелояльностью, цена больше, чем мелодичным изъявлениям патриотических чувств такого неожиданного в этом смысле персонажа, как Джон Гант:
Счастливейшего племени отчизна[18].
Мы учили эти стихи в школе.
Благословенный край, страна родная,
Отчизна наша Англия[19].
Эти почтительные строки были опубликованы в 1597 году. А двумя годами раньше другой поэт, Саутвелл, был казнен после трех лет пыток. Если бы Шекспир проявил подобную нелояльность, мы, наверное, больше любили бы его как человека.
Отравлять психологические колодцы, поощрять освистывание, ограничивать человеческое сочувствие — в этом всегда было заинтересовано государство. Править легче, когда люди кричат: «Галилеянин», «Папист», «Фашист», «Коммунист». Не задача ли писателя выступать адвокатом дьявола, взывать к сочувственному пониманию тех, на кого не распространяется государственное одобрение? Призвание склоняет его быть протестантом в католическом обществе, католиком — в протестантском; в коммунистической стране видеть достоинства капиталиста, в капиталистическом государстве — коммуниста. Томас Пейн писал: «Даже врагов мы должны защищать от несправедливости».
Если бы писатели могли сохранять эту добродетель нелояльности — более важную для них, чем милосердие, — не запятнанной миром… Почет, даже премии, покровительство государства, успех, похвалы коллег — все это подтачивает нелояльность. Дом в Стратфорде нельзя подвергать опасности. Если они не преданны церкви или стране, то склонны исповедовать какую-то свою изобретенную идеологию, и их будут хвалить за постоянство, хотя писатель должен быть всегда готов перейти на другую сторону по первому же сигналу. Он на стороне жертв. А жертвы меняются. Лояльность привязывает вас к общепринятым мнениям: лояльность не позволяет сочувственно понимать инакомыслящих; а нелояльность поддерживает в странствиях по сознанию любого человека: она дает романисту другой объем понимания.
Я не защищаю никакую пропаганду. Пропаганда имеет целью добиться сочувствия к одной стороне, к той, где для пропагандиста — добро. Он тоже отравляет колодцы. Задача же романиста — найти свое подобие в любом человеческом существе, и виновном, и невинном… Вот я опять за свое, прости, Господи.
Если мы расширим границы сочувствия в наших читателях, то сможем немного затруднить работу государства. В этом наш подлинный долг перед обществом — быть крупинками песка в государственной машине. Пусть и приемлемы сегодня для советского государства великие классики — Достоевский, Толстой, Тургенев, Гоголь, Чехов, — они незаметно затруднили регламентацию русского духа, или ослабили ее. Бессмысленно обсуждать Карамазовых с классовой точки зрения. И если вы говорите о кулаке с ненавистью, не придет ли на память забавный герой «Мертвых душ», чтобы осадить вашу ненависть? Рано или поздно затихнет в ушах требовательный призыв горна к лояльности, к социальной ответственности, к подъему материального благосостояния для большинства, и тогда, возможно, вспомнятся долгие бесцельные дискуссии при луне, стук бильярдных шаров, солнечные дни того месяца в деревне.
В худшие дни нашей жизни перед этим выбором между послушанием и неблагонадежностью встал великий немецкий теолог. «Христиане в Германии, — писал он, — встанут перед ужасным выбором: либо желать поражения своей стране, чтобы уцелела христианская цивилизация, либо желать победы своей стране и тем самым — уничтожения цивилизации. Я знаю, какую из этих альтернатив я должен выбрать».
Дитрих Бонхёффер выбрал виселицу, как наш английский поэт Саутвелл. Для писателя он больший герой, чем Шекспир. Может быть, самая глубокая трагедия в жизни Шекспира — его собственная. Закрыть глаза ради герба, придержать язык ради придворной дружбы и большого дома в Стратфорде.