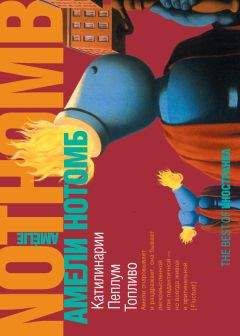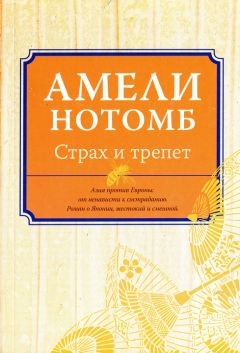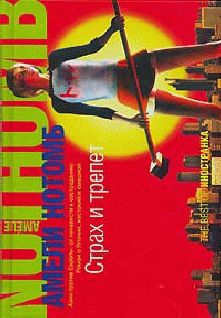– Ну да, к примеру.
– Сейчас… Придумала.
– Слушаю вас.
– Фи.
– Как, простите?
– Фи, сударь.
– А что это значит?
– Такого слова нет больше?
– Я никогда его слышал.
– Что ж, когда пойдете в Главное Хранилище искать мое наследие, воспользуйтесь случаем и загляните в какой-нибудь старый словарь. Это станет для вас последним сюрпризом.
– Как пишется это странное слово?
– Эф – И. Фи.
– Всего две буквы? И это все, что вы можете сказать?
– Будьте спокойны, когда вы узнаете его значение и этимологию, то увидите, что я вас не обидела.
– Но что оно собой представляет? Наречие, императив?
– Обыкновенное междометие.
– Опять ваши архаизмы!
– Да я сама по себе архаизм. Пожалуйста, отправьте меня в мою архаическую эпоху. Жду не дождусь, чтобы вы пошли посмотреть словарь.
– Что ж, прощайте. Привет вашему гибискусу.
– Прощайте, Цельсий.
* * *
Я проснулась у себя дома.
Полив гибискус, спустилась на первый этаж за почтой. На письмах стояла вчерашняя дата – 8 мая 1995 года. Цельсий сдержал слово.
Мне повстречался сосед, который как-то странно на меня поглядел, и я заметила, что все еще одета в пеплум. Точно актриса, сбежавшая со съемок фильма Сесила де Милля[23].
Я поднялась в квартиру. Сняла пеплум: на животе виднелся шов после операции.
9 мая был вторник.
Цельсий оказался прав: я не могла не написать о нем книгу.
Это оказалось нелегко, пришлось восстанавливать нашу долгую беседу по памяти. Места, где встречались научные подробности, я описала приблизительно.
Несколько дней спустя я получила письмо от своего итальянского издателя, чей офис находился в Неаполе. Я подумала, что оттуда совсем недалеко до Помпей. Хорошо бы ему пригласить меня в гости.
Мне ужасно хочется съездить на Юг – настоящий, большой Юг.
Закончив рукопись, я отнесла ее в редакцию. И уточнила, что история подлинная.
Никто мне так и не поверил.
Сцена представляет собой комнату; всю заднюю стену занимают стеллажи, переполненные книгами. Остальная обстановка поражает своим убожеством: ни столов, ни секретера, ни кресел, только несколько деревянных стульев и справа, в углу, большая чугунная печка.
М у ж ч и н а лет пятидесяти сидит на одном из стульев и что-то пишет, положив стопку бумаги на колени. На нем свитер с высоким воротом.
Входит мужчина лет тридцати – Д а н и е л ь; он в теплом пальто, которое, войдя, не снимает.
Даниель. Уже работаете, профессор?
Профессор (не поднимая головы). Да уж целый час.
Даниель берет стул, переносит его поближе к печке. Садится.
Даниель. До войны вы не имели обыкновения так рано подниматься.
Профессор. От холода не мог уснуть. Чуть не рехнулся, ворочаясь в постели; в конце концов плюнул и встал. Странное дело, почему-то сидя мерзнешь куда меньше.
Даниель. Потому что вы работаете: это отвлекает от мыслей о температуре воздуха.
Профессор. Я думаю, еще и поза играет роль: когда лежишь, труднее сопротивляться холоду. Так, во всяком случае, кажется.
Даниель. А над чем вы работаете?
Профессор. Вы будете смеяться, Даниель: я пишу – как же это назвать? Лекцию? Доклад? Просто мысли? – о последней главе «Бала в обсерватории».
Даниель. Блатека?
Профессор. Вы знаете еще один «Бал в обсерватории», написанный кем-то другим?
Даниель. Поймите меня, профессор: я вас знаю много лет и никогда не слышал от вас ни одного доброго слова о Блатеке.
Профессор. Вы меня знаете много лет, но давно ли вы живете со мной под одной крышей?
Даниель. С тех пор, как варвары разбомбили мой квартал. Два месяца уже.
Профессор. За эти два месяца, Даниель, у вас была возможность понаблюдать за мной в обыденной жизни. Вы хоть раз видели, чтобы я читал Фатернисса?
Даниель. Нет.
Профессор. Видели, чтобы я читал Обернаха? Эсперандио? Кляйнбеттингена?
Даниель. Нет.
Профессор. И что же из этого, по-вашему, следует, друг мой Даниель?
Даниель. Ничего удивительного: вы так давно читаете лекции о них, что знаете их творчество наизусть. О Фатерниссе вы написали диссертацию – с чего бы вам его перечитывать?
Профессор. Напрасно вы так снисходительны, голубчик, на повышение все равно не стоит рассчитывать. В мирное время я уже сделал бы вас доцентом. Но пока не кончится война – а вы сами знаете, что кончится она нескоро, – быть вам моим ассистентом. Штатное расписание заморожено – это вклад университета в войну.
Даниель. Все это я знаю, профессор. Но это не лесть: я счел бы полным идиотизмом, читай вы дома авторов, которых расхваливали нам на лекциях.
Профессор. А читать авторов, которых я перед студентами высмеивал, – это, по-вашему, умно?
Даниель. Я думаю, у вас есть на то свои причины.
Профессор. Да нет же, Даниель! Неужели даже война не научит вас нетерпимости? Хоть какой-то был бы от нее толк.
Даниель. От нее не будет никакого толка, профессор: даже если она чему-то нас научит, все равно ведь убьет.
Профессор. Вы вдобавок начисто лишены чувства юмора.
Даниель. А вы считаете, есть над чем смеяться?
Профессор. Да, еще как есть. Вам посчастливилось увидеть то, в чем ни один преподаватель литературы в жизни не сознается: что он читает – что он действительно читает – на досуге.
Даниель. На досуге… война – это досуг?
Профессор. Для меня это вынужденный досуг. Раньше у меня было четырнадцать часов лекций в неделю. Теперь я читаю лекции, когда университет не бомбят. Сегодня у нас пятница – на этой неделе я проповедовал моим студентам в общей сложности ровно сорок минут. Так что у меня теперь куда больше досуга на неподобающее чтение.
Даниель. А я бываю в университете почти так же часто, как раньше.
Профессор. Вы молоды, вот и геройствуете. Оставьте моим сединам право на трусость.
Даниель. Дело не в геройстве. Я вас уверяю, в университете не так холодно. (Кладет ладони на печку.) Профессор, печка опять погасла.
Профессор. Топить больше нечем. Смотрите: на растопку пошли все столы и даже секретер с инкрустациями. Жечь стулья неразумно: сидя на полу, мы еще сильнее замерзнем. Знаете, почему в университете теплее? Потому что его непрерывно бомбят. После каждой бомбежки появляются обломки полов, которые можно жечь. Если бы самолеты варваров почаще наведывались в мой квартал, я мог бы предложить вам лучше отопленное жилище.
Даниель. Это называется юмор в холодном виде.
Профессор. Браво, Даниель, браво! Как видите, война порой оттачивает остроумие.
Даниель. Если бы я хоть сознавал, что мы на войне! На войне сражаются, а мы что? Сидим в осаде.
Профессор. Не могу с вами согласиться. Вы сражаетесь. Для нас, преподавателей, продолжать читать лекции значит сражаться. А для наших студентов продолжать, невзирая на бомбежки, интересоваться местом наречия у поэтов-романтиков тоже значит сражаться.
Даниель. Еще вопрос, это ли их интересует. Боюсь, они ходят на лекции только потому, что университет еще отапливают.
Профессор. Отапливают, но бомбят – они там рискуют жизнью. Не преуменьшайте их заслуг.
Даниель. Положа руку на сердце, профессор, я не уверен, что им дорога жизнь. Это я говорю по собственному опыту: утром, поднимаясь в четыре часа, чтобы идти в университет, я не думаю ни о моей диссертации, ни о предстоящем опасном пути по улицам, ни о бомбах, ни о том, что это, возможно, мое последнее утро. Я думаю: «Скорей бы в факультетскую библиотеку к теплым трубам!»
Профессор. К трубам?
Даниель (исступленно). Вы не замечали? Трубы, что у стен, горячие, прямо кипяток. (Встает, раскидывает руки.) Я прижимаюсь спиной и руками к этому переплетению труб и стою, пока от моего пальто не запахнет паленым.
Профессор. О, дивный сон! Спасибо, буду иметь в виду.
Даниель. Так вот, вставая утром, я думаю только об одном: о горячих трубах. Не о жизни, не о смерти, не о войне, не о варварах, не о моей диссертации – поймите меня правильно, – ни даже о голоде.
Профессор. Не о Марине?
Даниель. Не о Марине, профессор. Я думаю только о трубах, о том, что скоро почувствую сквозь пальто их тепло.