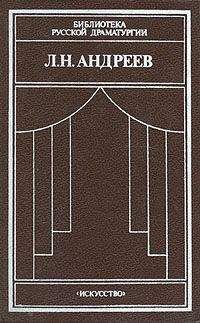Савва. Это не совсем верно, отец Кондратий. Вы пели «Во Иордане крещахуся», и притом на очень веселый мотив.
Кондратий. Разве? Что же, тем хуже. До чего, значит, дошел человек?
Савва. Только вы, отец, напрасно напускаете на себя меланхолию. Душа у вас веселая, и грусть эта совсем вам не к лицу, поверьте.
Кондратий. Прежде была веселая, это верно вы говорите, Савва Егорович, до поры до времени, пока в монастырь не поступил. А как поступил — вместо радости и успокоения узнал я самую настоящую скорбь. Да, убил бобра, можно сказать.
Входит Тюха, останавливается у притолоки и влюбленными глазами смотрит на послушника.
Савва. Что же так?
Кондратий (подходя ближе, вполголоса). У нас, Савва Егорович, Бога нет, у нас дьявол. У нас страшно жить, поверьте, Савва Егорович, моему честному слову. Я человек бывалый, испугать меня не легко, но, однако, ночью по коридору ходить боюсь.
Савва. Какой дьявол?
Кондратий. Обыкновенный. К вам, к людям образованным, он, конечно, является под благородными фасонами, а к нам, которые попроще и поглупее, в своем естественном виде.
Савва. С рогами?
Кондратий. Как вам сказать? Рог я не видал, да и не в рогах суть дела, хотя должен сказать, что на тени и рога отпечатываются весьма явственно.
Дело в том, что нет у нас тишины, а этакий беспокойный шум. Снаружи ночью посмотреть — покой, а внутри: стон и скрежет зубовный. Какие хрипят, какие стонут, какие так, непонятно на что жалуются: идешь мимо дверей, а за каждою дверью словно душа живая со светом прощается. И вдруг прошмыгнет что-то и за угол, а на стенке вдруг тень. Ничего нет, а на стенке тень. В других местах что такое тень? — так, пустяки, явление, не стоящее внимания, а у нас они, Савва Егорович, живут, чуть что не разговаривают. Ей-Богу!
Коридор у нас, знаете ли, есть такой длинный-длинный, до бесконечности.
Вступишь в него — ничего, этак черненькое что-то перед ногами мотается, вроде тоже как бы человек, а потом все больше, да шире, да по потолку, знаете, пошло, да уже тебя сзади-то, сзади! Идти идешь, а уж чувствовать-то — ничего уж и не чувствуешь.
Савва (Тюхе). Ты что глаза таращишь?
Тюха. Какая рожа.
Кондратий. И Бог у нас сил не имеет. Конечно, есть у нас мощи и икона чудотворная, но только все это никакого, извините, действия не оказывает.
Липа. Что вы говорите?
Кондратий. Никакого-с. Мне не верите, так других иноков спросите, то же скажут. Молимся мы, молимся, лбами бьем, бьем — а хоть бы тебе что. Уж ни о чем другом, а чтобы вот хоть силу-то нечистую отогнало, так нет, не может! Стоит себе образ и стоит, как будто и не его это дело, а как ночь, так и пошло шмыгать по всему монастырю да за углами подкарауливать… Отец игумен говорит: малодушие, стыдитесь, — но только по какой причине нет действия? Говорят у нас…
Липа. Ну?
Кондратий. Да только трудно очень поверить, как же это так? Говорят, будто дьявол-то настоящий образ, который есть действительно чудотворный, давно уже украл, а на место его свой портрет повесил.
Липа. Господи! Какое кощунство! Как же вам не стыдно верить таким мерзостям? А еще рясу носите… Вам, правда, только в луже лежать…
Савва. Ну-ну, не сердись. Это она нарочно, отец Кондратий, она добрая.
А отчего бы вам и вправду из монастыря не уйти? Что за охота с тенями да с дьяволами возиться?
Кондратий (пожимая плечами). Да и ушел бы, да куда приткнуться? От дела я отбился давно, а тут, по крайней мере, заботы о куске хлеба не имеешь. Да и против дьявола… (осторожно подмигивает Савве на Липу, отвернувшуюся к окну, и щелкает себе по горлу) есть у меня средствице.
Савва. Ну-ну, пойдем, поговорим. Ты, рожа, пришлешь нам водки? Как, решил или нет?
Тюха (хмуро). Он неверно говорит. Дьявола тоже нет. Этого не может быть, чтобы дьявол свой портрет повесил, когда дьявола нет. Пусть он лучше у меня спросит.
Савва. Ладно, потом поговоришь. Пришли водки.
Тюха (уходит). И водки не пришлю.
Савва. Вот дурень! Вы, отец, вот что: ступайте-ка пока в сад, вот в ту дверь, знаете, а я сейчас приду. Не заблудитесь? (Уходит следом за Тюхой.)
Кондратий. До свидания, Олимпиада Егоровна.
Липа не отвечает. Когда Кондратий выходит, она несколько раз взволнованно проходит по комнате и ждет Савву.
Савва (входит с бутылкой водки и связкой бубликов). Ну вот… Какой дурень!
Липа (загораживает ему дорогу). Я знаю, зачем ты пришел сюда. Я знаю.
Ты не смеешь.
Савва. Что еще?
Липа. Я слушала тебя и думала, что это одни слова, что это так, но теперь… Опомнись, подумай!.. Ты с ума сошел. Что ты хочешь делать?
Савва. Пусти!
Липа. И я слушала его, смеялась… Господи! Я точно проснулась от страшного сна… Или все это сон? Зачем здесь был монах? Зачем? Зачем ты говорил про бомбы?
Савва. Ну, довольно, поговорила и достаточно. Пусти!
Липа. Да пойми же, что ты сошел с ума… понимаешь, сошел с ума!
Савва. Надоело. Пусти!
Липа. Савва, ну миленький, ну голубчик… А, так… Хорошо же, не слушаешь, хорошо же. Ты увидишь, Савва. Увидишь. Найдутся люди. Тебя связать надо! Господи, что же это! Да постой же! Постой!
Савва (идя). Хорошо, хорошо.
Липа (кричит). Я донесу на тебя. Убийца! Анархист! Я донесу на тебя!
Савва (поворачиваясь). Ого! Знаешь, будь поосторожнее. (Кладет ей руку на плечо и смотрит в глаза.) Будь поосторожнее, говорю!
Липа. Ты… (Секунды три борьбы двух пар глаз, и Липа отворачивается, закусив губы.) Я не боюсь тебя.
Савва. Вот так-то лучше. А то кричать. Кричать никогда не надо.
(Уходит.)
Липа (одна). Что же это? Что же делать… Да?
Кудахчут куры.
Егор Иванович (во дворе). Что тут делается, а? На полчаса ушел, а уже какой беспорядок. Полька, ты что это цыплят в малинник выпустила? Ступай, анафема, загони. Тебе говорю! А вот же я тебе пойду! Я тебе пойду! Я тебе…
ЗанавесВнутри монастырской ограды. В глубине сцены и с левой стороны — монастырские здания, трапезная, кельи монахов, часть церкви и башня с проходными арчатыми под ней воротами. В различных направлениях двор пересекают деревянные мостки. Правая сторона сцены: слегка выдавшийся угол стенной башни и приютившееся возле стены небольшое монастырское кладбище, обнесенное легкой железной решеткой. Мраморные памятники, каменные и железные плиты, сильно вдавшиеся в землю; все старое, покосившееся, — здесь уже давно никого не хоронят. Шиповник, два-три небольших дерева.
Время к вечеру после всенощной; от башни, от стены длинные тени.
Здания и башни залиты красноватым светом заходящего солнца. По мосткам проходят монахи, послушники, богомольцы. В начале действия слышно, как за стеной гонят деревенское стадо: хлопает пастуший кнут, блеяние овец, мычание коров, глухие крики. К концу действия сильно темнеет, и движение по двору прекращается. На лавочке у железной решетки кладбища сидят Савва, Сперанский и молодой послушник. Сперанский держит шляпу на коленях и изредка приглаживает длинные прямые волосы, висящие двумя унылыми прядями вдоль длинного бледного лица; ноги держит вместе, говорит тихо, грустно, жестикулирует одним вытянутым указательным пальцем. Послушник, молодой, круглолицый, крепкий, не слушает разговора и все время улыбается чему-то своему.
Савва (рассеянно глядя в сторону). Да. Чем же вы занимаетесь тут?
Сперанский. Да ничем, Савва Егорович. Разве в таком положении можно чем-нибудь заниматься? Раз человек сомневается в собственном своем существовании, так для него никакие занятия необязательны. Но дьяконица этого не понимает. Она очень глупая женщина, совершенно необразованная и, кроме того, дурного характера, и заставляет меня работать. А какая же тут работа? Или такое дело: у меня аппетит очень хороший, развился еще в семинарии, а она упрекает меня за каждый, извините, кусок хлеба. Не понимает того, необразованная женщина, что в действительности куска этого, весьма возможно, совсем не существует. Имей я настоящее бытие, как другие люди, я страдал бы весьма сильно, но в теперешнем моем положении нападки эти не уязвляют меня. Меня все житейское не уязвляет, Савва Егорович.