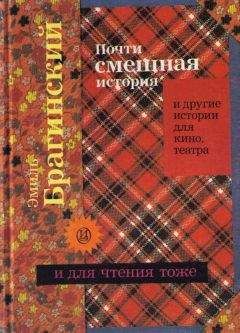— Вам бы повидать Германа Сергеевича! — быстро объяснила цель прихода Ириша.
— Вон он, — показал главный, — прилег! Разбудить?
— Ни в коем случае! — остановила его Зоя Павловна. — Нам не к спеху!
Главный ушел. Зоя Павловна осторожно переступила порог.
— Вы тут обождите, — зашептала Ириша, — пока он соизволит продрать глаза, а я, извините, я не могу всю жизнь заниматься вашими делами! — И прежде чем Зоя Павловна успела сказать хоть слово, привычно растворилась в воздухе.
Зоя Павловна присела на краешек стула и стала ждать. Чтобы не смотреть в упор на спящего, начала изучать плакат на стене. Это почему-то были не правила футбольного судейства, а вовсе правила уличного движения.
Очевидно почувствовав присутствие незнакомого человека, Герман Сергеевич проснулся, обнаружил Зою Павловну и недовольно на нее уставился.
— Вам кого?
— Вы Герман Сергеевич?
— Ну?
— Значит, вас!
Герман Сергеевич вздохнул и сел, опустив ноги со скамейки.
— Ну? — повторил он тот же выразительный вопрос. Зоя Павловна передернула плечиками.
Герман Сергеевич, видно, был не из разговорчивых. Он поднялся, надел пиджак и взял в руки такой же банальный чемоданчик, какой был у главного судьи.
— Сегодня вам здорово досталось! — сказала Зоя Павловна, чтобы сказать что-нибудь.
— Ничего… — махнул рукой махала и направился к выходу. Зоя Павловна последовала за ним.
— Тетя Маша! — крикнул кому-то Герман Сергеевич. — Мы ушли, заприте!
И зашагал дальше, не обращая на Зою Павловну ни малейшего внимания. И тут в ней заговорила женщина:
— Вы бы хоть спросили, зачем я вас искала.
Теперь уже Герман Сергеевич пожал плечами и так же неторопливо, делово продолжал свой путь.
— Мне очень нужно с вами поговорить и, может быть, даже познакомиться!
— Ну? — боковой судья по имени Герман Сергеевич остановился и даже добавил еще одно слово: — Чего?
Тут кто-то из зрителей, покидавших стадион, толкнул Зою Павловну, которая застряла на самом ходу. И она отыгралась на нем за свое теперешнее унижение:
— Что вы тут растолкались? Что вы тут безобразничаете, черт возьми!
Герман Сергеевич не стал дожидаться, пока Зоя Павловна расплещет эмоции, и так же спокойно двинулся дальше, к старому зеленому «Москвичу», который, как и положено старику, терпеливо дожидался хозяина на стоянке для служебных машин.
Зоя Павловна бросилась вдогонку.
— Какой вы все-таки невежливый, а еще судья, — и добавила, чтобы обидеть: — Хотя вам простительно, вы всех дел-то боковой судья, махала!
— Ну? — в той же равнодушной интонации спросил Герман Сергеевич.
Зоя Павловна пришла в отчаяние.
— Ну да ну… ну довезите хотя бы до метро, пожалуйста!
В машине, осознав всю безрассудность своего нахальства, Зоя Павловна сидела подавленная, не произнося ни слова, сжав руки на коленях, а Герман Сергеевич бесстрастно смотрел вперед, на дорогу, не обращая на пассажирку ни малейшего внимания. Так и ехали.
Наконец Зоя Павловна не выдержала:
— Остановите, будьте добры, и выпустите меня!
Герман Сергеевич улучил удобный момент, повернул к тротуару, притормозил.
— Спасибо! — Зоя Павловна выбралась из машины, спохватилась, добавила: — И извините!
Герман Сергеевич не видел Зою Павловну, это совершенно точно, а может, и не слышал тоже. Он включил скорость, и зеленый «Москвич» двинулся с места.
Зоя Павловна подняла руку и проголосовала. На этот раз повезло. Такси остановилось тотчас же. И Зоя Павловна облегченно нырнула в машину.
— Вам безразлично, куда ехать? — спросил таксист, потому что Зоя Павловна не называла адреса.
— Что? — переспросила Зоя Павловна.
— Будем ехать или стоять?
— Ехать! Обязательно!
— Куда?
Впереди, у светофора, застрял знакомый «Москвич».
— Видите вон ту зеленую посудину? — спросила Зоя Павловна.
— Четыреста седьмой «Москвич»?
— Увезите меня от него, и как можно дальше!
— Понятно! — сказал водитель, — У меня мандарин такой же был!
— Кто? — не поняла Зоя Павловна.
— Раньше я начальника одного возил. И вот когда моему мандарину намыливал холку мандарин покрупнее, он мне говорил: «Езжай на край света!»
— Край света это где? — серьезно спросила Зоя Павловна.
Герман Сергеевич загонял машину в гараж, а из соседнего гаража, прекратив возиться с «Запорожцем», вышел приятель по фамилии Михалев.
— Как сыграли, судья?
— Один-один.
— А Наташка мужа привела!
— Ну? — первый раз на лице Германа Сергеевича появилось заинтересованное выражение, и он перестал запирать машину.
— Какие могут быть претензии? Зять у меня — человек высокого искусства: кончил консерваторию по классу баяна — и усмехнулся, — Третий день живу под чужую музыку! — И тотчас изловчился и полез в «Москвич». — Пусти, Сергеич! — И извлек оттуда дамскую сумочку.
— Вот это ну! — протянул Герман Сергеевич.
— Возишь, значит? — Михалев не скрывал насмешки.
— Да нет, — Герман Сергеевич первый раз заговорил нормальным языком. — Пристала тут болельщица-психопатка… Это она нарочно забыла!
— А чего ей надо?
— Чего-нибудь… Не так судят, ее команду вечно засуживают — я бы женщин вообще на футбол не допускал!
И тут Михалев неожиданно схватил приятеля за руку.
— Тихо, говорун!
Из дома, что стоял неподалеку, доносился голосистый баян.
— А он не может играть потише? — почему-то шепотом спросил Герман Сергеевич.
— Не может.
— А окна закрыть?
— Не хочет. Нас жильцы из дома вышибут!
— Вышибут! — согласился Герман Сергеевич, только сейчас заметив, что держит в руках дамскую сумочку, и поглядел на нее с ненавистью,
Зоя Павловна вернулась домой, в пустую квартиру, и села на кухне жевать творожники. Но спокойно поесть не дали — зазвонил телефон.
Зоя Павловна услышала в трубке голос Ириши:
— Проверяю, когда вы пришли. Если так быстро, значит…
— Вот что, Ириша, — жестко сказала Зоя Павловна, — вы зря стараетесь! Я не имею на Артема ни малейшего влияния!
— Сегодняшние родители на отпрысков влияют слабо, — не стала спорить Ириша, — но все-таки…
— Все-таки перестань мне звонить! — Тут Зоя Павловна поглядела на фотографию внука, которая висела на стене. — И дергать мне нервы! Хватит того, что я забыла в его машине сумочку!
— Это гениально! — зашлась Ириша на другом конце провода. — Вы нарочно забыли, чтобы иметь предлог!
— Да не нарочно, а случайно! — с раздражением воскликнула Зоя Павловна.
— А я вам не верю! — И Ириша первой повесила трубку.
Назавтра Зоя Павловна, в самом прескверном настроении, сидела в кабинете директора клуба. Директор как сделала себе прическу-начес в начале 50-х годов, так и осталась в ней и внешне, и внутренне.
— Как дела с Чеховым? — спрашивала она, глядя мимо Зои Павловны куда-то в будущее.
— Репетируем, месяца через полтора выпустим.
— А потом? — Тон у директора был прокурорский. Говорила она тихо, но голос ее пролезал в душу и там буравил дырку.
— Мы уже читали Островского «Свои люди — сочтемся».
— Я тоже прочла, — кивнула директор, и Зоя Павловна поняла, что ее вызвали именно поэтому, — зачем нам эта пьеса?
— Во это же классика! — изумилась Зоя Павловна.
— Классика бывает разная! — директор достала какие-то записи. — Какие выражения, а? «Девчонка хабальная», «геморрой расходился», «мухортик».
— «Мухортик» — это значит маленького роста, — подсказала режиссер.
— «Старая карга», — продолжала цитировать директор, — «старая дура», «убирайся к свиньям!», вы что же, собираетесь пропагандировать всю эту ругань?
— Но это же тысячу раз произносилось со сцены!
— Зачем же произносить в тысячу первый! — Директор опять полезла в записи. — А вот эти намеки на сегодняшний день: «А то торгуем, торгуем, братец, а пользы ни на грош» — или тут: «Таскают родным и любовницам». Для чего нам бить по больному месту?
Зоя Павловна не нашлась что ответить.
— То-то! — чуть улыбнулась глава клуба. — И потом, на сцене все время «я рюмочку выпью», «я водочки выпью». Вы не только брань, вы и пьянство собираетесь пропагандировать?
— Но это когда пьют, во времена Островского!
— А ставят в какие времена? Нет у вас политического чутья, Зоя Павловна! Вам надо искать современную пьесу без всяких намеков, без площадной брани, без того, чтобы дочь, как у вашего классика, обхамливала родную мать!
Зоя Павловна не удержалась:
— Скажите, а почему, когда вы меня вызываете, я всегда чувствую себя виноватой, почему?
Директор вздохнула:
— Ох, и тяжело с вами, с творческими единицами! Вот вы, всех дел — режиссер самодеятельности, а думаете, что вы — Станиславский!