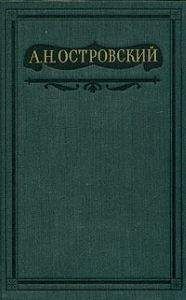Елохов. Кого люблю, того и дарю.
Барбарисов. К чему такая слабость непростительная? Зачем распускаться? Евлампия Платоновна не должна забывать, сколько огорчений доставил ей этот брак ее дочери. Она должна помнить, помнить все, что перенесла по милости Ксении Васильевны.
Елохов. «Не должна забывать, должна помнить!..» Вот вы хвалитесь благочестивой жизнью; вы какой же религии придерживаетесь?
Барбарисов. Да что вы: «религия»! Лучше вас я это знаю.
Елохов. А коли знаете, зачем так говорите?
Барбарисов. Заговоришь, когда тебя грабят, и не тр заговоришь.
Елохов. Нет, вы уж сделайте одолжение, потрудитесь выбирать другие выражения. Вы у Виталия Петровича в доме и так о нем отзываетесь! Это неприлично и неосторожно.
Барбарисов. Разве вы сплетничать хотите? Извольте! Я не боюсь.
Елохов. Сплетничать не сплетничать, а и скрывать не вижу никакой надобности. Виталий Петрович не любит, когда о нем неучтиво отзываются; он вас за это не похвалит.
Барбарисов. Я извинюсь, я извинюсь. Меня все извиняют. Что делать? Я такой человек. Я блаженный; у меня — что на уме, то и на языке. Да я и не считаю, что нахожусь у Виталия Петровича; я у Ксении Васильевны. В их семействе я свой человек; я защищаю их интересы. Мне никто этого запретить не может.
Елохов. Нет, Евлампия Платоновна лучше вас; она рассуждает как следует, как нравственный закон повелевает; по-христиански, всякую обиду, всякое огорчение прощать следует.
Барбарисов. «Прощать, прощать»! Я это знаю. Прибей меня, я прощу. И жена может простить мужа за неверность, и теща, только… только деньгами-то зачем же награждать? Из-за чего же тогда, из-за каких благ другие-то должны воздерживаться и отказывать себе во всем, если…
Елохов. Значит, по-вашему, покаявшихся прощать можно, только надо с них штраф брать в пользу добродетельных?
Барбарисов. Да, конечно, надо же какую-нибудь разницу…
Елохов. Прекрасно! Это новый кодекс нравственных правил! Нераскаянных грешников судить уголовным судом, а раскаявшихся — гражданским, с наложением взыскания. И все грехи и проступки положить в цену: один грех дороже, другой дешевле! Вот вы и займитесь этим делом: напишите реферат и прочитайте в юридическом обществе. Барбарисов. Смейтесь, смейтесь! Хорошо вам смеяться-то!
Из боковой двери входят Снафидина и Капитолина.
Явление четвертое
Елохов, Барбарисов, Снафидина и Капитолина.
Елохов. Здравствуйте, Евлампия Платоновна!
Снафидина. Ах, Макар Давыдыч! Очень вам благодарна, что навещаете Ксению. Вы человек почтенный, не то, что нынешние кавалеры.
Капитолина. Маменька! (Пожимает плечами.) «Кавалеры»!
Снафидина. Ну, уж не учи мать, придерживай язык-то! Мы с Макаром Давыдычем понимаем друг друга.
Елохов. Понимаем, Евлампия Платоновна, понимаем. Нет, уж где мне за нынешними кавалерами гоняться! Ноги плохи стали.
Снафидина. Как я рада, что Ксения покупает себе дачу в Крыму. Там она успокоится и поправится.
Барбарисов. Только надо, чтоб она себе купила, именно себе.
Снафидина. Как «себе»? Разумеется, себе; а то еще кому же?
Барбарисов. То есть на свое имя. А она может купить на имя Виталия Петровича.
Снафидина. Зачем? С какой стати? Это будет ее имение, ее собственное. Чьи деньги, того и имение. Уж это всякому известно.
Барбарисов. Для этого-то и надо, чтобы купчая была совершена на ее имя.
Снафидина. А коли надо, так ты и скажи ей, научи ее!
Капитолина. Да послушает ли она его?
Снафидина. Ну, вот еще! Скажи, что я приказала. Как она смеет не послушать!
Барбарисов. Если имение будет куплено на имя Ксении Васильевны, так в случае, чего боже сохрани, смерти ее оно должно по наследству перейти к Капитолине Васильевне.
Капитолина. Да, так и надо сделать, чтоб оно мое было. Уж вы, Фирс Лукич, так и постарайтесь.
Снафидина. Вы с Фирсом Лукичем, я вижу, уж что-то очень много о земном хлопочете; не хорошо это, не тому я вас учила. Вы бы почаще о душе подумывали.
Барбарисов. Нельзя же, Евлампия Платоновна, и о земном не думать. На земле живем.
Капитолина. Конечно, после сестры все мне следует.
Елохов. Если она не оставит завещания.
Снафидина. Какого еще завещания?
Елохов. Она по завещанию может отказать свое имение кому угодно.
Снафидина. Без позволения-то матери?
Барбарисов. Да-с, может; она совершеннолетняя.
Снафидина. Ну, уж ты, пожалуйста, молчи. Я не хуже тебя знаю.
Елохов. И суд утвердит такое завещание, потому что против него и спору никакого не может быть.
Снафидина. Как «никакого спору»? Да я первая начну спор.
Елохов. И вам суд откажет, а завещание утвердит.
Снафидина. Хороши же ваши суды! И как вам не стыдно, Макар Давыдыч!
Елохов. Какой стыд! Чего мне стыдиться?
Снафидина. Вы уж довольно-таки пожилой человек, и вы равнодушно говорите о таких порядках в суде. Или это, по-нынешнему, так и следует?
Елохов. Да и прежде так же было.
Снафидина. Нет уж, не может быть, прежде все было лучше. Не одна я это говорю. А хоть бы и было, так мне все равно; я суду вашему не покорюсь, я в сенат буду жаловаться.
Елохов. И сенат откажет. И сенату тут судить нечего, потому что на это есть очень ясный закон.
Снафидина. Закон, чтобы дети не слушались родителей? Нет, такого закона и быть не может!
Елохов. Я не юрист, спорить с вами не смею.
Снафидина. И давно бы вам так сказать надо было.
Барбарисов. Сенат откажет, Евлампия Платоновна. Действительно есть такой закон, что совершеннолетние могут…
Снафидина. Ах, молчи, сделай милость! Постарше тебя есть, да не спорят. «Сенат откажет»! Ну, что ж такое? Я и выше пойду. Какой еще там закон! Один закон только и есть: «чтоб дети повиновались своим родителям». И никаких других законов нет. А если и есть, так я их знать не хочу. Пусть кто хочет, тот их и исполняет, а я не намерена. Я стану просить, чтоб запретили судам бунтовать против меня моих дочерей, чтоб их непослушание в судах не оправдывали и не покрывали какими-то своими законами. Нет, со мной трудно спорить: я, батюшка, мать; я свои права знаю; я за дочерей должна на том свете отвечать.
Елохов. Да мы и не спорим с вами, Евлампия Платоновпа.
Барбарисов (Елохову). Не слыхали ли вы, поедет нынче Виталий Петрович на пикник?
Елохов. Нет, не поедет.
Снафидина. Какой это пикник?
Барбарисов. Веселый, со всеми онёрами, с дамами.
Снафидина. Хороши, я думаю, дамы!
Барбарисов. Дорогой пикник: рублей по 300 с человека. Букеты дамам из Ниццы выписывали.
Капитолина. Ах, вот прелесть-то! Вы не поедете, Фирс Лукич?
Барбарисов. Нет, я на таких пикниках не бываю.
Капитолина. А я так бы и полетела!
Снафидина. Что ты, что ты! Ты только подумай, что ты говоришь!
Барбарисов. Это не Капитолина Васильевна говорит, это ее невинность говорит. Она понятия не имеет о том, что там творится и какие там канканы танцуют.
Снафидина. Да я знаю, что невинность. А то что же? Не заступайся, пожалуйста! Не обижу напрасно. А все-таки ей бы помолчать лучше.
Барбарисов. Уж они бы и дам-то из Парижа выписывали.
Елохов. Что вы толкуете о том, чего не знаете? Не бывали вы на этих пикниках, — дороги они для вас, — так погодили бы осуждать-то.
Барбарисов. Впрочем, зачем дам выписывать? Букетов-то заграничных не было, а дамы-то есть, еще раньше были выписаны. Жаль, очень жаль, что Виталий Петрович там не будет; без него и праздник не в праздник. Он, кажется, у них главным распорядителем.
Елохов. Что вы на Виталия Петровича напраслину взводите? Никогда он у них распорядителем не бывал, а сегодня и подавно.
Барбарисов. Да что ж я, в самом деле? Ведь Ксения Васильевна только что приехала.
Снафидина. Ну, вот, что ж ты болтаешь-то?
Барбарисов. Не бросить же ему, на первых порах, жену для своих приятелей! С ними он каждый день видится, денек-то другой и подождут. Они от него никуда не уйдут, и пикник-то это не первый и не последний. Виталий Петрович свое возьмет; не удалось теперь, так после наведет. Давеча, как вы вошли с букетом, я думал: уже не оттуда ли это, не заграничный ли букет-то?