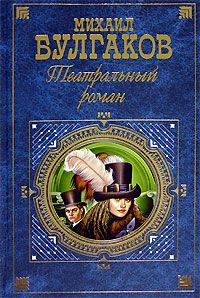«Позвольте, тут какая-то путаница...» – подумал я, до того не вязался вид вошедшего человека с здоровым хохотом и словом «расстегаи», которое донеслось из передней.
Путаница, оказалось, и была. Следом за вошедшим, нежно обнимая за талию, Конкин вовлек в столовую высокого и плотного красавца со светлой вьющейся и холеной бородой, в расчесанных кудрях.
Присутствовавший здесь беллетрист Фиалков, о котором мне Рудольфи шепнул, что он шибко идет в гору, был одет прекрасно (вообще все были одеты хорошо), но костюм Фиалкова и сравнивать нельзя было с одеждой Измаила Александровича. Добротнейшей материи и сшитый первоклассным парижским портным коричневый костюм облекал стройную, но несколько полноватую фигуру Измаила Александровича. Белье крахмальное, лакированные туфли, аметистовые запонки. Чист, бел, свеж, ясен, весел, прост был Измаил Александрович. Зубы его сверкнули, и он крикнул, окинув взором пиршественный стол:
– Га! Черти!
И тут порхнул и смешок, и аплодисмент и послышались поцелуи. Кой с кем Измаил Александрович здоровался за руку, кой с кем целовался накрест, перед кой-кем шутливо отворачивался, закрывая лицо белою ладонью, как будто слеп от солнца, и при этом фыркал.
Меня, вероятно принимая за кого-то другого, расцеловал трижды, причем от Измаила Александровича запахло коньяком, одеколоном и сигарой.
– Баклажанов! – вскричал Измаил Александрович, указывая на первого вошедшего. – Рекомендую. Баклажанов, друг мой.
Баклажанов улыбнулся мученической улыбкой и, от смущения в чужом, большом обществе, надел свою фуражку на шоколадную статую девицы, державшей в руках электрическую лампочку.
– Я его с собой притащил! – продолжал Измаил Александрович. – Нечего ему дома сидеть. Рекомендую – чудный малый и величайший эрудит. И, вспомните мое слово, всех нас он за пояс заткнет не позже чем через год! Зачем же ты, черт, на нее фуражку надел? Баклажанов!
Баклажанов сгорел со стыда и ткнулся было здороваться, но у него ничего не вышло, потому что вскипел водоворот усаживания, и уж между размещающимися потекла вспухшая лакированная кулебяка.
Пир пошел как-то сразу дружно, весело, бодро.
– Расстегаи подвели! – слышал я голос Измаила Александровича. – Зачем же мы с тобою, Баклажанов, расстегаи ели?
Звон хрусталя ласкал слух, показалось, что в люстре прибавили свету. Все взоры после третьей рюмки обратились к Измаилу Александровичу. Послышались просьбы: «Про Париж! Про Париж!»
– Ну, были, например, на автомобильной выставке, – рассказывал Измаил Александрович, – открытие, все честь по чести, министр, журналисты, речи... между журналистов стоит этот жулик, Кондюков Сашка... Ну, француз, конечно, речь говорит... на скорую руку спичишко. Шампанское, натурально. Только смотрю – Кондюков надувает щеки, и не успели мы мигнуть, как его вырвало! Дамы тут, министр! А он, сукин сын!.. И что ему померещилось, до сих пор не могу понять! Скандалище колоссальный. Министр, конечно, делает вид, что ничего не замечает, но как тут не заметишь... Фрак, шапокляк, штаны тысячу франков стоят. Все вдребезги... Ну, вывели его, напоили водой, увезли...
– Еще! Еще! – кричали за столом.
В это время уже горничная в белом фартуке обносила осетриной. Звенело сильней, уже слышались голоса. Но мне мучительно хотелось знать про Париж, и я в звоне, стуке и восклицаниях ухом ловил рассказы Измаила Александровича.
– Баклажанов! Почему ты не ешь?..
– Дальше! Просим! – кричал молодой человек, аплодируя...
– Дальше что было?
– Ну, а дальше сталкиваются оба эти мошенника на Шан-Зелизе, нос к носу... Табло! И не успел он оглянуться, как этот прохвост Катькин возьми и плюнь ему прямо в рыло!..
– Ай-яй-яй!
– Да-с... Баклажанов! Не спи ты, черт этакий!.. Нуте-с, и от волнения, он неврастеник ж-жуткий, промахнись, и попал даме, совершенно неизвестной даме, прямо на шляпку...
– На Шан-Зелизе?!
– Подумаешь! Там это просто! А у ней одна шляпка три тысячи франков! Ну конечно, господин какой-то его палкой по роже... Скандалище жуткий!
Тут хлопнуло в углу, и желтое «Абрау» засветилось передо мною в узком бокале... Помнится, пили за здоровье Измаила Александровича.
И опять я слушал про Париж.
– Он, не смущаясь, говорит ему: «Сколько?» А тот... ж-жулик! (Измаил Александрович даже зажмурился.) «Восемь, говорит, тысяч!» А тот ему в ответ: «Получите!» И вынимает руку и тут же показывает ему шиш!
– В «Гранд-Опера»?!
– Подумаешь! Плевал он на «Гранд-Опера». Тут двое министров во втором ряду.
– Ну, а тот? Тот-то что? – хохоча, спрашивал кто-то.
– По матери, конечно!
– Батюшки!
– Ну, вывели обоих, там это просто...
Пир пошел шире. Уже плыл над столом, наслаивался дым. Уже под ногой я ощутил что-то мягкое и скользкое и, наклонившись, увидел, что это кусок лососины, и как он попал под ноги – неизвестно. Хохот заглушал слова Измаила Александровича, и поразительные дальнейшие парижские рассказы мне остались неизвестными.
Я не успел как следует задуматься над странностями заграничной жизни, как звонок возвестил прибытие Егора Агапенова. Тут уж было сумбурновато. Из соседней комнаты слышалось пианино, тихо кто-то наигрывал фокстрот, и я видел, как топтался мой молодой человек, держа, прижав к себе, даму.
Егор Агапенов вошел бодро, вошел размашисто, и следом за ним вошел китаец, маленький, сухой, желтоватый, в очках с черным ободком. За китайцем дама в желтом платье и крепкий бородатый мужчина по имени Василий Петрович.
– Измашь тут? – воскликнул Егор и устремился к Измаилу Александровичу.
Тот затрясся от радостного смеха, воскликнул:
– Га! Егор! – и погрузил свою бороду в плечо Агапенова.
Китаец ласково улыбнулся всем, но никакого звука не произносил, как и в дальнейшем не произнес.
– Познакомьтесь с моим другом китайцем! – кричал Егор, отцеловавшись с Измаилом Александровичем.
Но дальше стало шумно, путано. Помнится, танцевали в комнате на ковре, отчего было неудобно. Кофе в чашке стоял на письменном столе. Василий Петрович пил коньяк. Видел я спящего Баклажанова в кресле. Накурено было крепко. И как-то почувствовалось, что пора, собственно, и отправиться домой.
И совершенно неожиданно у меня произошел разговор с Агапеновым. Я заметил, что, как только дело пошло к трем часам ночи, он стал проявлять признаки какого-то беспокойства. И кое с кем начинал о чем-то заговаривать, причем, сколько я понимаю, в тумане и дыму получал твердые отказы. Я, погрузившись в кресло у письменного стола, пил кофе, не понимая, почему мне щемило душу и почему Париж вдруг представился каким-то скучным, так что даже и побывать в нем вдруг перестало хотеться.
И тут надо мною склонилось широкое лицо с крупнейшими очками. Это был Агапенов.
– Максудов? – спросил он.
– Да.
– Слышал, слышал, – сказал Агапенов. – Рудольфи говорил. Вы, говорят, роман напечатали?
– Да.
– Здоровый роман, говорят. Ух, Максудов! – вдруг зашептал Агапенов, подмигивая. – Обратите внимание на этот персонаж... Видите?
– Это – с бородой?
– Он, он, деверь мой.
– Писатель? – спросил я, изучая Василия Петровича, который, улыбаясь тревожно-ласковой улыбкой, пил коньяк.
– Нет! Кооператор из Тетюшей... Максудов, не теряйте времени, – шептал Агапенов, – жалеть будете. Такой тип поразительный! Вам в ваших работах он необходим. Вы из него в одну ночь можете настричь десяток рассказов и каждый выгодно продадите. Ихтиозавр, бронзовый век! Истории рассказывает потрясающе! Вы представляете, чего он там в своих Тетюшах насмотрелся. Ловите его, а то другие перехватят и изгадят.
Василий Петрович, почувствовав, что речь идет о нем, улыбнулся еще тревожнее и выпил.
– Да самое лучшее... Идея! – хрипел Агапенов. – Я вас сейчас познакомлю... Вы холостой? – тревожно спросил Агапенов.
– Холостой... – сказал я, выпучив глаза на Агапенова.
Радость выразилась на лице Агапенова.
– Чудесно! Вы познакомитесь, и ведите вы его к себе ночевать! Идея! У вас диван какой-нибудь есть? На диване он заснет, ничего ему не сделается! А через два дня он уедет.
Вследствие ошеломления я не нашелся ничего ответить, кроме одного:
– У меня один диван...
– Широкий? – спросил тревожно Агапенов.
Но тут я уже немного пришел в себя. И очень вовремя, потому что Василий Петрович уже начал ерзать с явной готовностью познакомиться, а Агапенов начал меня тянуть за руку.
– Простите, – сказал я, – к сожалению, ни в каком случае не могу его взять. Я живу в проходной комнате в чужой квартире, а за ширмой спят дети хозяйки (я хотел добавить еще, что у них скарлатина, потом решил, что это лишнее нагромождение лжи, и все-таки добавил)... и у них скарлатина.
– Василий! – вскричал Агапенов. – У тебя была скарлатина?
Сколько раз в жизни мне приходилось слышать слово «интеллигент» по своему адресу. Не спорю, я, может быть, и заслужил это печальное название. Но тут я все же собрал силы и, не успел Василий Петрович с молящей улыбкой ответить: «Бы...» – как я твердо сказал Агапенову: