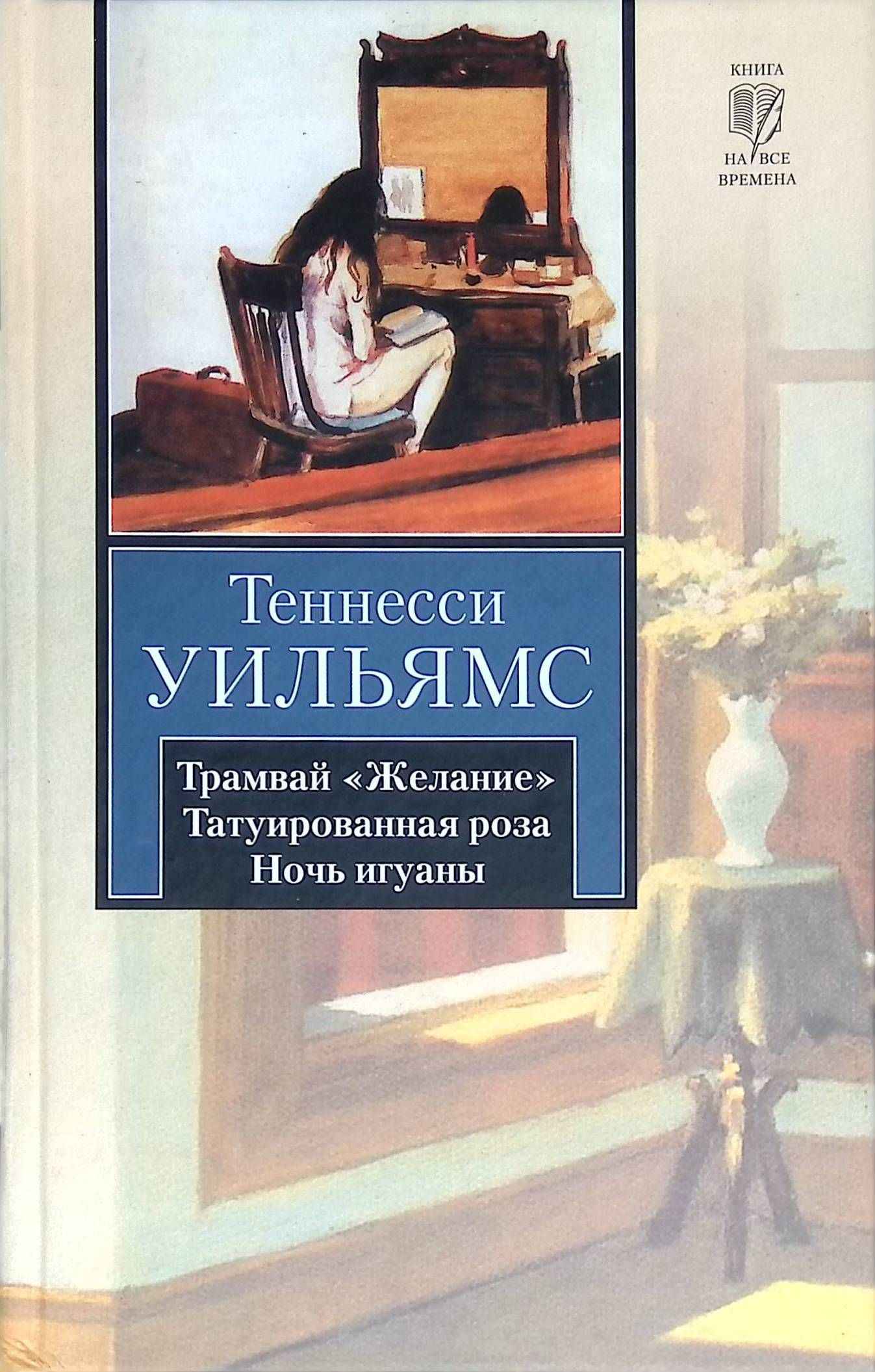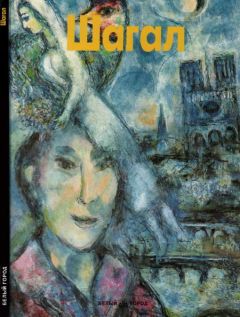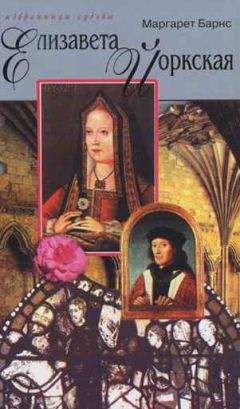но вполне подходящая, потом как засела за машину в кимоно… Три года и не вылезала. Вот бока и наросли.
Серафина: А с боками сидеть прочнее.
Попугай кричит, Серафина ему подражает.
Флора: Попка-дурак!
Серафина: Никакой он не дурак, и вообще, чего она там у окна делает?!
Бесси: Смотри, легионеры едут.
Флора: Легионеры? Шутишь! (Вскакивает и присоединяется к подруге у окна?)
Обе бессмысленно смеются, высовываясь из окна.
Бесси: Он сюда смотрит, крикни что-нибудь!
Флора (высовываясь из окна): Парле ву франсе, мадемуазель из Арманьетт.
Бесси (повторяет в восторге): Парле ву франче, мадмуазель из Арманьетт.
Голос снаружи (галантно отвечая на приветствие): Мадемуазель из Арманьетт не целовали сорок лет.
Флора и Бесси (вместе): Йе, йе, парле, парле. (Хохочути хлопают в ладоши?)
Слышен смех легионеров и гудок отъезжающих машин, Серафина вскакивает и бросается к окну, отталкивая Флору и Бесси, захлопывает ставни у них перед носом.
Серафина (в бешенстве): Я уже сказала, это вам не кабак. Забирайте свою блузку и катитесь, идите на улицу. Там ваше место. А здесь дом Розарио делла Роза, вот его прах в мраморной урне, и я не позволю тут ничего такого, да еще грязных разговоров.
Флора: Это у кого же грязные разговоры?
Бесси: Во, наглая какая!
Флора: Себя б послушала.
Серафина: У вас… у вас — грязь на языке. Все время — «мужики», «мужики». Чокнулись на мужиках.
Флора: Зелен виноград! Зелен виноград, вот что. А злишься — от зависти.
Бесси: Вся зеленая от зависти. Вот.
Серафина (внезапно, с благоговением): Когда я думаю о мужчинах, я думаю о Розарио. Он был сицилиец. Мы любили друг друга каждую ночь, не пропустили ни одной с самой первой, когда поженились, до последней, когда его там, на дороге… (Переводит дыхание, чтоб не зарыдать.) И может, я потому не схожу с ума по мужчинам и не люблю пустых разговоров о них. А сейчас вся моя жизнь — это дочь и ее счастье, она заканчивает школу сегодня. А я опаздываю, музыка уже играет… и часы потеряла — мой подарок. (Мечется в разные стороны.)
Бесси: Флора, пошли! К черту блузку!
Флора: Нет, нет, минуточку. Со мной такое не пройдет.
Серафина: Отправляйтесь в Нью-Орлеан, раз вы так сходите с ума по мужчинам. Подцепите какого-нибудь, но только на улице, не в моем доме, рядом с прахом моего мужа. (Школьный оркестр играет военный марш. Грудь Серафины бурно вздымается. Она прижимает руку к сердцу и будто забыла, что должна уходить.) Мне совершенно все равно, что там за мужчины. Да пусть делают, что хотят. Пусть хиреют, пусть лысеют, пусть наряжаются в мундиры, пусть срывают платья с девчонок и швыряют кульки с водой из окон отеля. Мне совершенно все равно. Я помню мужа, его тело юноши, его волосы, густые и черные, как мои, кожу, гладкую и нежную, как лепесток желтой розы.
Флора: И сам он был, как роза.
Серафина: Да, да, роза…
Флора: Ничего себе, роза макаронная. Гангстер. Убили потому, что гашиш под бананами возил.
Бесси: Флора, пошли.
Серафина: Мои родные все крестьяне. Батраки, а он… он был из помещиков, из синьоров. Я ночами не сплю и вспоминаю, а вспомнить есть чего. Такое мало кому дано. Да и не мало кому, а просто — мне одной! Одной! Такое не забывается.
Бесси: Ну давай, пошли на вокзал!
Флора: Погоди, я хочу дослушать, стоит того.
Серафина: Я ночи сосчитала. Наши ночи, когда я была с ним. Знаете, сколько? Каждую ночь за все двенадцать лет. Четыре тысячи триста восемьдесят. Только с ним. Иногда и вовсе глаз не смыкала. Обниму его и лежу так до утра. И не жалею об этом. А сейчас вот тоскую без него. Подушка моя не просыхает от слез. Но вспомнить мне есть о чем. Да я была бы распоследней женщиной, недостойной жить под одной крышей ни с дочерью, ни с урной его дорогого праха, если бы после всего, что у нас было, после него, я полюбила другого! В летах, не молодого, забывшего, что такое страсть, отрастившего брюхо, потного, проспиртованного, да еще уверенного, что он меня осчастливил своей любовью! Уж я-то знаю, как надо любить! Только вспомню — дух захватывает! (Задыхается, как после подъема на лестницу) Отправляйтесь, все равно вам такого не дано, и пусть на улице вас забросают пакетами с грязной водой, а мне хватит воспоминаний о любви мужчины, который был только мой. И больше не знал никого. Меня одну! Одну! (Переводит дух, выбегает на крыльцо и оказывается в лучах солнечного света, это ее как будто удивляет. Она вдруг чувствует, что вся в слезах. Роется в сумочке в поисках платка?)
Флора (подходит к открытой двери): И больше не знал никого!
Серафина (страстно и гордо): И больше не знал никого!
Флора: А мне вот известен человек, который мог бы кое-что порассказать! Да и ходить за ним недалеко. Дойти лишь до Эспаланады.
Бесси: Эстелла Хогенгартен!
Флора: Она самая, приехала из Техаса. Обтяпывает темные делишки.
Бесси: Влезай в блузку и пошли.
Флора: Все это знали, кроме Серафины. Она вот валялась, зарывшись в постель, как страусиха, а на следствии все вышло наружу. Одни факты. Да завяжи мне поясок этот чертов! У них такая любовь была, что ты! Больше года все длилось.
Все это время Серафина стоит снаружи, на крыльце, перед открытой дверью. Она ярко освещена солнцем. Кажется, будто она потеряла всякое соображение от слов, которые выкрикиваются в комнате. Она медленно оборачивается. Мы видим, что платье у нее не застегнуто, сзади видна розовая комбинация. Она протягивает руку, как слепая и, нащупав колонну прижимается к ней, пока эти безжалостные слова все глубже впитываются в нее. Школьный оркестр играет, словно не обращая внимания на это.
Бесси: Да пусть ее верит в свои бредни. Блажен, кто верует.
Флора: У него была роза на груди. Ну, татуировка, в общем. И Эстелла так в него втюрилась, что пошла на Бурбонстрит и себе сделала такую же точно. (Серафина стоит в дверях. Флора поворачивается к ней со злобой) Вот именно, наколку, точь-в-точь, как у макаронника.
Серафина (тихо): Ложь… (Кажется, что это слово как бы придает ей силы.)
Бесси (беспокойно): Флора, идем, ну, идем же!
Серафина (громовым голосом): Ложь…Ложь! (Хлопает дверью с такой яростью, что трясутся стены)
Бесси (в ужасе): Идем отсюда, Флора!
Флора: Да пусть хоть треснет от