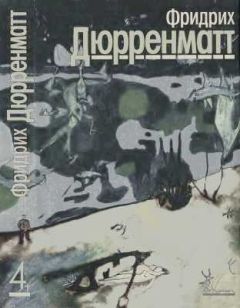Писатель. Я тебя понимаю.
Палач. Но попадались и такие, кто умирал по-другому, хотя мне иногда кажется, что в том и другом случаях смерть была одинаковой. Сударь, они обдавали меня презрением и уходили из жизни с высоко поднятой головой. Перед смертью они произносили замечательные речи о свободе и справедливости, издевались над властями, нападали на богачей и тиранов, да так, что мороз подирал по коже. Я думаю, они умирали так потому, что чувствовали себя правыми. Может быть, в чем-то они и были правы. Им хотелось показать, что они не боятся смерти. И здесь все было просто и ясно: мы были в состоянии войны. Они шли на смерть, исполненные ярости и презрения, в гневе я рубил им головы. Мне кажется, правда была не только на их стороне, но и на моей. Их смерть была впечатляющим актом.
Писатель. Они умирали как герои. Сегодня так должны умирать многие!
Палач. Самое удивительное, сударь, что сегодня никто больше так не умирает.
Писатель. Врешь, негодяй! Именно сегодня каждый, кто умирает от твоей руки, — бунтарь.
Палач. Я тоже считаю, что многие хотели бы так умереть.
Писатель. Каждый волен выбирать, как ему умереть.
Палач. Но только не приговоренный к казни. Тут, сударь, нужна публика. Так оно и было в прежние времена.
Казнь была торжественным актом, на зрелище собиралось много людей: судья, прокурор, защитник, священник, журналисты, врачи, просто любопытные. Все в черных сюртуках, как на церемонии государственного масштаба. Иногда, чтобы добавить событию импозантности, раздавался еще и треск барабанов. В такой атмосфере приговоренному ничего не стоило произнести зажигательную обличительную речь, прокурор, случалось, зеленел от злости и в ярости кусал губы. Сегодня все изменилось. Умирают наедине со мной. Даже священника не приглашают, а о суде и говорить нечего. Из презрения ко мне осужденные отказываются от последнего слова. Какая же это казнь, когда концы с концами не сходятся, когда попираются права жертвы? Умирают равнодушно, как животные, тут уж не до искусства смерти. А если время от времени обвиняемые все же предстают перед судом, потому что так нужно государству, если при исполнении приговора присутствуют прокурор и судья, то осужденный в этом случае предстает окончательно сломленным человеком, с ним можно делать все что угодно. Такая смерть — жалкое зрелище. Да, сударь, наступили другие времена.
Писатель. Другие времена! Даже палач это заметил!
Палач. Я никак не могу взять в толк, что, собственно, происходит с нашим миром…
Писатель. В нем правит бал палач, друг мой! Я тоже хотел умереть как герой. А оказался один на один с тобой.
Палач. Один на один со мной в тишине ночи.
Писатель. И мне остается только подохнуть как скотине.
Палач. Сударь, есть и другой способ умереть.
Писатель. Так расскажи, каким образом в наши дни можно умереть, а не сгинуть.
Палач. Сударь, надо со смирением принять свою смерть.
Писатель. Мудрость, достойная палача! В наши дни нельзя быть смиренным, парень! И принимать смерть со смирением тоже нельзя. Эта добродетель сегодня просто неприлична. Надо до последнего вздоха бороться с преступлениями, которые совершаются против человечества.
Палач. Борьба — дело живых, сударь, перед умирающими стоят другие задачи.
Писатель. Перед умирающими стоят те же задачи, что и перед живыми. На мою долю выпало этой ночью, в этой комнате, в окружении моих книг, созданий моего духа, еще до рассвета умереть от руки презренного человека, без предъявленного обвинения, без суда и защиты, без приговора, даже без священника, который положен последнему преступнику! Умереть, как гласит приказ, тайно, чтобы не узнали люди, даже те, что спят в этом доме. И ты требуешь от меня смирения! Наше бесчестное время, которое убийц делает государственными мужами, а палачей — судьями, вынуждает правых умирать смертью преступников. Ты сказал, что преступники сопротивляются. Отлично, палач! Я буду сопротивляться.
Палач. Сопротивляться мне бессмысленно.
Писатель. В наше варварское время только сопротивление палачу имеет смысл.
Палач. Вы подошли к окну…
Писатель. Я не уйду в небытие без шума, без звука, как камень в пучину. Пусть все слышат, что я сопротивляюсь. Я стану кричать в раскрытое окно, я разбужу этот рабский город! (Кричит.) Люди, слушайте! Меня хотят зарезать как скотину! Я вступил в схватку с палачом! Люди, вылезайте из своих постелей! Посмотрите, в каком государстве мы живем!
Тишина.
Что ж ты мне не мешаешь?
Палач. Зачем?
Писатель. Я буду кричать снова.
Палач. Кричите на здоровье.
Писатель (неуверенно). Ты не хочешь со мной бороться?
Палач. Борьба начнется, когда вас обхватят мои руки.
Писатель. Понимаю! Ты играешь со мной, как кошка с мышью. На помощь!
Тишина.
Палач. Видите, никто не откликается.
Писатель. Будто я и не кричал…
Палач. Никто не спешит на помощь.
Писатель. Никто.
Палач. И в доме никто не проснулся.
Писатель. Ни звука.
Тишина.
Палач. Что же вы не кричите?
Писатель. Какой в этом смысл?
Палач. Каждую ночь очередная жертва взывает о помощи, но никто не откликается.
Писатель. Сегодня умирают в одиночку. Страх слишком велик.
Тишина.
Палач. Не хотите ли снова присесть?
Писатель. Ничего другого мне не остается.
Палач. Я вижу, вы пьете шнапс.
Писатель. Кто намерен сразиться с тобой, тому выпить не помешает. На, паршивая собака, получай! (Плюет шнапсом в лицо палачу.)
Палач (спокойно). Вы вне себя от отчаяния.
Писатель. Я плюю тебе в лицо, а ты спокоен. Тебя ничем не проймешь!
Палач. Не я должен умереть этой ночью.
Писатель. Палач не умрет никогда. До сих пор я сражался оружием, достойным мужчины, — оружием духа. Я был Дон Кихотом, добротной прозой воевавшим с уродливым чудовищем. Смешно! А теперь, уже поверженный, истерзанный вашими когтями, я должен пускать в ход зубы. Много ли добьешься таким оружием? Комедия, да и только: я борюсь за свободу, но у меня даже нет оружия, чтобы у себя дома, в собственной квартире прикончить палача. Можно я выкурю еще сигарету?
Палач. Сударь, раз уж вы решили бороться со мной, вам незачем спрашивать у меня разрешения.
Молчание.
Писатель (тихо). Я больше не в состоянии защищаться.
Палач. Вы и не обязаны это делать.
Писатель. Я устал.
Палач. Все когда-нибудь устают.
Писатель. Прости, что я плюнул тебе шнапсом в лицо.
Палач. Ничего. Я понимаю.
Писатель. Наберись терпения. Смерть — слишком трудное искусство.
Палач. Вы дрожите, и спички в ваших руках все время ломаются. Разрешите, я дам вам огня.
Писатель. Как и два раза до этого.
Палач. Да.
Писатель. Благодарю. Это последняя. Больше я не стану тебя утруждать. Сдаюсь на милость победителя.
Палач. Как все смиренные, сударь.
Писатель. Что ты имеешь в виду?
Палач. Понять смиренных очень трудно. Чтобы распознать их — и то надо много времени. Сначала я их презирал, пока не понял, что они великие мастера в искусстве смерти. Когда человек умирает как бессловесная тварь, он отдается моей воле и позволяет убить себя не сопротивляясь. Смиренные тоже не сопротивляются, и все же они умирают иначе. Они покоряются судьбе не потому, что бессильны. Сперва мне казалось: они поступают так, потому что боятся. Но именно смиренные не ведают страха. Наконец я вообразил, что нашел отгадку: смиренные — это преступники, они воспринимают смерть как справедливое возмездие. Но, странное дело, точно так же умирали и невиновные, люди, о которых я достоверно знал, что они не совершали никаких преступлений.
Писатель. Не понимаю.
Палач. Меня это тоже смущало, сударь. Смирение преступника — это понятно. Но ведь так умирали и невиновные — вот чего я не мог понять! Они шли на смерть так, будто по отношению к ним не совершается преступление, они воспринимали смерть как должное. Одно время я боялся убивать и почти ненавидел себя, когда мне приходилось это делать, — настолько безумной и непонятной для меня была их смерть. Мое вмешательство не имело смысла.