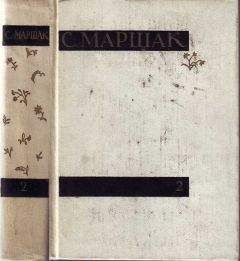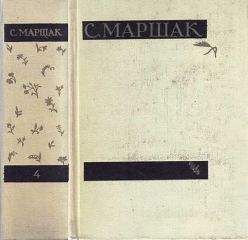Начало века
Шумит-бурлит людской поток
На площади вокзальной.
Солдат увозят на Восток
И говорят — на Дальний.
Дрались их деды в старину
Не раз в далеких странах,
Вели за Альпами войну,
Сражались на Балканах.
Но дальше этих дальних стран
Восточный край державы.
Через Сибирь на океан
Везут солдат составы.
Далеким пламенем война
Идет в полях Маньчжурии.
И глухо ропщет вся страна,
Как роща перед бурею.
А здесь — у входа на вокзал —
Свистят городовые…
В те дни японец воевал
Со связанной Россией.
_____
Я помню день, когда войне
Исполнилось полгода.
Кого-то ждать случилось мне
Среди толпы народа.
Ломились бабы, старики
К вокзальному порогу.
Несли мешки и узелки
Солдатам на дорогу.
Вдруг барабан издалека
Сухую дробь рассыпал.
И узелок у старика
Из рук дрожащих выпал.
И, заглушая плач детей,
Раздался у вокзала
Припев солдатский «Соловей»
И посвист разудалый.
Под переливы «Соловья»
Идут — за ротой рота —
Отцы, мужья и сыновья
В открытые ворота.
И хлынул вслед поток живой
Наперекор преградам,
Как ни вертел городовой
Конем широкозадым.
Коня он ставил поперек,
Загородив дорогу,
Но путь пробил людской поток
К воротам и к порогу.
Скользя глазами по толпе,
Бежавшей вдоль перрона,
Смотрел полковник из купе
Блестящего вагона.
Взглянув с тревогой на народ,
Стекло он поднял в раме…
Был пятый год, суровый год,
Уже не за горами.
Он сухощав, и строен, и высок,
Хоть плечи у него слегка сутулы.
Крыло волос ложится на висок,
А худобу и бледность бритых щек
Так явственно подчеркивают скулы.
Усы еще довольно коротки,
Но уж морщинка меж бровей змеится.
А синих глаз задорные зрачки
Глядят в упор сквозь длинные ресницы.
На нем воротничков крахмальных нет.
На мастера дорожного похожий,
Он в куртку однобортную одет
И в сапоги обут из мягкой кожи.
Таким в дверях веранды он стоял —
В июльский день, безоблачный, горячий, —
И на привет собравшихся на даче
Басил смущенно: — Я провинциал!
Провинциал… Уже толпой за ним
Ходил народ в театре, на вокзале.
По всей стране рабочие считали
Его своим. «Наш Горький! Наш Максим!»
Как бы случайно взятый псевдоним
Был вызовом, звучал программой четкой,
Казался биографией короткой
Тому, кто был бесправен и гоним.
Мы, юноши глухого городка,
Давно запоем Горького читали,
Искали в каждом вышедшем журнале,
И нас пьянила каждая строка.
Над речкой летний вечер коротая
Иль на скамье под ставнями с резьбой,
Мы повторяли вслух наперебой
«Старуху Изергиль» или «Пиляя».
Товарищ мой открытку мне привез,
Где парень молодой в рубашке белой,
Назад откинув прядь густых волос,
На мир глядел внимательно и смело.
И вот теперь, взаправдашний, живой,
В июльский день в саду под Петроградом,
Чуть затенен играющей листвой,
Прищурясь, он стоит со мною рядом.
Тот Горький, что мерещился вдали
Так много лет, — теперь у нас всецело.
Как будто монумент к нам привезли,
И где-то площадь разом опустела.
О нет, не монумент!.. Глухим баском,
С глубоким оканьем нижегородца
Он говорит и сдержанно смеется —
И точно много лет он мне знаком.
Не гостем он приехал в Петроград,
Хоть и зовет себя провинциалом.
Вербует он соратников отряд
И властно предъявляет счет журналам.
Так было много лет тому назад.
В тот зимний день Шаляпин пел
На сцене у рояля.
И повелительно гремел
Победный голос в зале.
«Шаляпин»… Вижу пред собой,
Как буквами большими
Со стен на улице любой
Сверкает это имя.
На сцены Питера, Москвы
Явился он природным
Артистом с ног до головы,
Беспечным и свободным.
Всего себя он подчинил
Суровой строгой школе,
Но в каждом звуке сохранил
Дыханье волжской воли.
Дрожал многоэтажный зал,
И, полный молодежи,
Певцу раек рукоплескал,
Потом — партер и ложи.
То — Мефистофель, гений зла, —
Он пел о боге злата,
То пел он, как блоха жила
При короле когда-то.
Казалось нам, что мы сейчас
Со всей галеркой рухнем,
Когда величественный бас
Затягивал: «Эй, ухнем!»
Как Волга, вольная река,
Катилась песня бурлака.
И, сотрясая зданье,
В ответ с балконов, из райка
Неслись рукоплесканья.
______
Печален был его конец.
Скитаясь за границей,
Менял стареющий певец
Столицу за столицей.
И все ж ему в предсмертный час
Мерещилось, что снова
Последний раз в Москве у нас
Поет он Годунова,
Что умирает царь Борис
И перед ним холсты кулис,
А не чужие стены.
И по крутым ступенькам вниз
Уходит он со сцены…
Вот набережной полукруг
И городок многоэтажный,
Глядящий весело на юг,
И гул морской, и ветер влажный.
И винограда желтизна
На горном склоне каменистом —
Все, как в былые времена,
Когда я был здесь гимназистом,
Когда сюда я приезжал
В конце своих каникул летних
И в белой Ялте замечал
Одних четырнадцатилетних.
Здесь на верандах легких дач
Сидел народ больной и тихий.
А по дорогам мчались вскачь
Проводники и щеголихи.
Я видел Ялту в том году,
Когда ее покинул Чехов.
Осиротевший дом в саду
Я увидал, сюда приехав.
Белеет стройный этот дом
Над южной улицею узкой,
Но кажется, что воздух в нем
Не здешний — северный и русский.
И кажется, что, не дыша,
Прошло здесь пять десятилетий,
Не сдвинув и карандаша
В его рабочем кабинете.
Он умер, и его уход
Был прошлого последней датой…
Пришел на смену новый год —
Столетья нынешнего пятый.
И тихий ялтинский курорт
Забушевал, как вся Россия.
И Ялтой оказался порт,
Суда морские, мастерские.
Идет народ по мостовой.
Осенний ветер треплет знамя.
И «Варшавянку» вместе с нами
Поет у пристани прибой.
Пусть море грохает сердито
И город обдает дождем, —
Из Севастополя мы ждем
Эскадру под командой Шмидта.
Она в ту осень не придет…
Двенадцать лет мы ожидали,
Пока на рейде увидали
Восставший Черноморский флот.
Шли пионеры вчетвером
В одно из воскресений.
Как вдруг вдали ударил гром
И хлынул дождь весенний.
От градин, падавших с небес,
От молнии и грома
Ушли ребята под навес —
В подъезд чужого дома.
Они сидели у дверей
В прохладе и смотрели,
Как два потока всё быстрей
Бежали по панели.
Как забурлила в желобах
Вода, сбегая с крыши,
Как потемнели на столбах
Вчерашние афиши…
Вошли в подъезд два маляра,
Встряхнувшись, точно утки, —
Как будто кто-то из ведра
Их окатил для шутки.
Вошёл старик, очки протёр,
Запасся папиросой
И начал долгий разговор
С короткого вопроса.
— Вы, верно, жители Москвы?
— Да, здешние — с Арбата.
— Ну, так не скажете ли вы,
Чей это дом, ребята?
— Чей это дом? Который дом?
— А тот, где надпись «Гастроном»
И на стене газета.
— Ничей, — ответил пионер.
Другой сказал: — СССР.
А третий: — Моссовета.
Старик подумал, покурил
И не спеша заговорил:
— Была владелицей его
До вашего рожденья
Аделаида Хитрово.
Спросили мальчики: — Чего?
Что это значит — Хитрово?
Какое учрежденье?
— Не учрежденье, а лицо! —
Сказал невозмутимо
Старик и выпустил кольцо
Махорочного дыма.
— Дочь камергера Хитрово
Была хозяйкой дома.
Его не знал я самого,
А дочка мне знакома.
К подъезду не пускали нас,
Но, озорные дети,
С домовладелицей не раз
Катались мы в карете.
Не на подушках рядом с ней,
А сзади — на запятках.
Гонял оттуда нас лакей
В цилиндре и в перчатках.
— Что значит, дедушка, лакей? —
Спросил один из малышей.
— А что такое камергер? —
Спросил постарше пионер.
— Лакей господским был слугой,
А камергер — вельможей,
Но тот, ребята, и другой —
Почти одно и то же.
У них различье только в том,
Что первый был в ливрее,
Второй — в мундире золотом,
При шпаге, с анненским крестом,
С Владимиром на шее.
— Зачем он, дедушка, носил
Владимира на шее?.. —
Один из мальчиков спросил,
Смущаясь и краснея.
— Не понимаешь? Вот чудак!
«Владимир» был отличья знак.
«Андрей», «Владимир», «Анна» —
Так назывались ордена
В России в эти времена.
Сказали дети: — Странно!
А были, дедушка, у вас
Медали с орденами?
— Нет, я гусей в то время пас
В деревне под Ромнами.
Мой дед привёз меня в Москву
И здесь пристроил к мастерству.
За это не медали,
А тумаки давали!..
Тут грозный громовой удар
Сорвался с небосвода.
— Ну и гремит! — сказал маляр.
Другой сказал: — Природа!..
Казалось, вечер вдруг настал,
И стало холоднее,
И дождь сильнее захлестал,
Прохожих не жалея.
Старик подумал, покурил
И, помолчав, заговорил:
— Итак, опять же про него,
Про господина Хитрово.
Он был первейшим богачом
И дочери в наследство
Оставил свой московский дом,
Имения и средства.
— Но неужель жила она
До революции одна
В семиэтажном доме,
В авторемонтной мастерской,
И в парикмахерской мужской,
И даже в «Гастрономе»?
— Нет, наша барыня жила
Не здесь, а за границей.
Она полвека провела
В Париже или в Ницце,
А свой семиэтажный дом
Сдавать изволила внаём.
Этаж сенатор занимал,
Этаж — путейский генерал,
Два этажа — княгиня.
Ещё повыше — мировой,
Полковник с матушкой-вдовой,
А у него над головой —
Фотограф в мезонине.
Для нас, людей, был чёрный ход,
А ход парадный — для господ.
Хоть нашу братию подчас
Людьми не признавали,
Но почему-то только нас
Людьми и называли…
Мой дед арендовал подвал.
Служил он у хозяев.
А в «Гастрономе» торговал
Тит Титыч Разуваев.
Он приезжал на рысаке
К семи часам — не позже,
И сам держал в одной руке
Натянутые вожжи.
Имел он знатный капитал
И дом на Маросейке.
Но сам за кассою считал
Потёртые копейки.
— А чаем торговал Перлов,
Фамильным и цветочным,-
Сказал один из маляров.
Другой ответил: — Точно!
— Конфеты были Ландрина,
А спички были Лапшина,
А банею торговой
Владели Сандуновы.
Купец Багров имел затон
И рыбные заводы.
Гонял до Астрахани он
По Волге пароходы.
Он не ходил, старик Багров,
На этих пароходах,
И не ловил он осетров
В привольных волжских водах.
Его плоты сплавлял народ,
Его баржи тянул народ,
А он подсчитывал доход
От всей своей флотилии
И самый крупный пароход
Назвал своей фамилией.
На белых вёдрах вдоль бортов,
На каждой их семёрке,
Была фамилия «Багров» —
По букве на ведёрке.
— Тут что-то, дедушка, не так.
Нет буквы для седьмого!
— А вы забыли твёрдый знак!
— Сказал старик сурово. —
Два знака в вашем букваре.
Теперь не в моде твёрдый.
А был в ходу он при царе,
И у Багрова на ведре
Он красовался гордо.
Была когда-то буква «ять»…
Но это — только к слову.
Вернуться надо нам опять
К покойному Багрову.
Скончался он в холерный год,
Хоть крепкой был породы.
А дети продали завод,
Затон и пароходы…
— Да что вы, дедушка!
Завод нельзя продать на рынке.
Завод — не кресло, не комод,
Не шляпа, не ботинки.
— Владелец волен был продать
Завод кому угодно,
И даже в карты проиграть
Он мог его свободно.
Всё продавали господа:
Дома, леса, усадьбы,
Дороги, рельсы, поезда,-
Лишь выгодно продать бы!
Принадлежал иной завод
Какой-нибудь компании:
На Каме трудится народ,
А весь доход — в Германии.
Не знали мы, рабочий люд,
Кому копили средства.
Мы знали с детства только труд
И не видали детства.
Нам в этот сад закрыт был вход.
Цвели в нём розы, лилии.
Он был усадьбою господ —
Не помню по фамилии…
Сад охраняли сторожа.
И редко, только летом,
В саду гуляла госпожа
С племянником-кадетом.
Румяный, маленький кадет,
Как офицерик, был одет
И хвастал перед нами
Мундиром с галунами.
Мне нынче вспомнился барчук,
Хорошенький кадетик,
Когда суворовец — мой внук —
Прислал мне свой портретик.
Ну, мой скромнее не в пример,
Растет не по-кадетски.
Он тоже будет офицер,
Но офицер советский.
— А может, выйдет генерал.
Коль учится примерно! —
Один из маляров сказал.
Другой сказал: — Наверно!
— А сами, дедушка, в какой
Вы обучались школе?
— В какой?
В сапожной мастерской
Сучил я дратву день-деньской
И натирал мозоли.
Я проходил свой первый класс,
Когда гусей в деревне пас.
Второй в столице я кончал,
Когда кроил я стельки
И дочь хозяйскую качал
В скрипучей колыбельке.
Потом на фабрику пошёл —
И кончил забастовкой.
И уж последнюю из школ
Прошёл я под винтовкой.
Так я учился при царе,
Как большинство народа,
И сдал экзамен в Октябре
Семнадцатого года!
Нет среди вас ни одного,
Кто знал во время óно
Дом камергера Хитрово
Или завод Гужона…
Да, изменился белый свет
За столько зим и столько лет.
Мы прожили недаром.
Хоть нелегко бывало нам,
Идём мы к новым временам
И не вернёмся к старым.
Я не учён. Зато мой внук
Проходит полный курс наук.
Не забывает он меня
И вот что пишет деду:
«Пред лагерями на три дня
Гостить к тебе приеду.
С тобой ловить мы будем щук,
Вдвоём поедем в Химки…»
Вот он, суворовец — мой внук
С товарищем на снимке!
Прошибла старика слеза,
И словно каплей этой
Внезапно кончилась гроза.
И солнце хлынуло в глаза
Струёй горячей света.