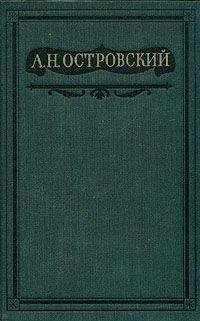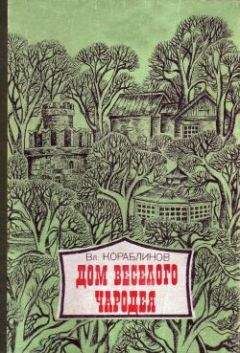Кисельников. Папенька, отец-благодетель! У вас деньги есть, – вы припрятали, много припрятали, – не дайте нам умереть с голоду.
Боровцов. Да что говорить! Деньги есть, как без денег жить, я не дурак.
Кисельников. Вот вы сами говорите, что у вас деньги остались. Вот сейчас, папенька, сказали, ведь вы сами сказали. А у меня нет, ей-богу, ничего нет.
Боровцов. Да хоть и остались, все-таки я тебе не дам; надо же нам со старухой как-нибудь век доживать. На нужду, коли уж тебе невмочь, да забежишь ты ко мне – ну, когда откажу, а когда и не откажу совсем-то, а умрем – все ваше останется. Из вещей что-нибудь дадим; вот фортепьянишки есть старенькие; нам теперь, при нашем несчастии, держать их не пристало.
Переярков. Да что вы за разговоры завели! За делом пришли, а не разговоры разводить; мне время-то дорого, у меня другие конкурсы есть. (Смотрит на часы.) Вона, десятый час! Вот предложите зятю-то, коли в нем человеческие чувства есть, пусть подпишет эту бумагу-то.
Боровцов. Есть в тебе чувство, Кирила? Говори.
Переярков. Заплачь! Что ж ты не плачешь! Твое теперь дело такое, сиротское. Ведь перед другими же кредиторами будешь плакать. Придется и в ноги кланяться.
Боровцов. Заплачу, право заплачу. (Со слезами.) Кирюша! Отец я тебе или нет? Благодетель я тебе был?
Кисельников. Да что вы, папенька?
Боровцов (подает ему бумагу). Читай бумагу!
Кисельников (читает). «Я, нижеподписавшийся, будучи убежден вполне обстоятельствами дела, что несостоятельность бывшего купца, а ныне мещанина Пуда Кузьмича сына Боровцова произошла от разных несчастных случаев и от неплатежа и корыстной злонамеренности его должников, – зная его всегдашнюю честность, преклонные лета и затруднительное болезненное состояние и удручение от трудов и семейства…»
Боровцов (со слезами). Видишь, видишь!
Кисельников. «Признаю его невинно-упадшим и иск свой по расписке в пять тысяч рублей ассигнациями и претензию о доме сим совершенно и навсегда прекращаю».
Боровцов. Вот оно, Кирюша, какое дело-то!
Кисельников. Что же теперь… Я не знаю… Как же мне быть-то?
Переярков. Подпиши, да и все тут. После всякого доброго дела на душе легче бывает, радость эдакая.
Кисельников. Папенька, как же… так от всего и отказаться?
Боровцов. Чужие мы, что ли? Не родня мы? Что ж, забуду я, что ль, такое твое благодеяние! Чай, мы христиане…
Переярков. Ведь тебе уж все равно, а нам для формы нужно.
Кисельников. Значит, папенька, я должен буду теперь только вашим словам поверить, что вы меня не оставите.
Боровцов. Да как же не поверить-то, чудак! Уж я тебя потом… Уж озолочу потом.
Кисельников (берет перо). Вот, папенька… Ах, руки трясутся… Смотрите же, папенька, я душе вашей верю. (Подписывает.)
Переярков (берет бумагу, складывает и кладет в карман). Ну, вот и конец, а ты сомневался. Видишь, какой благородный зять-то у тебя; по скольку за раз дарит. А ты говорил: не уломаешь. Видишь, как скоро, да и без расходов.
Боровцов. Да, теперь как гора с плеч. Ты, Кирюша, парень хороший, право хороший! А я думал было, что ты заломаешься. Ведь и другие то же пишут, что ты; да даром-то еще никто не подписал.
Кисельников. Как, разве вы платили?
Боровцов. Да как же не заплатить-то, чудак! Кому половину, кому двадцать пять, глядя по характеру. А ты вот молодец! Видно, что любишь тестя. Я думал, что и ты тоже заломишь, так приготовил было тысчонки две и с собой захватил. Заткнуть, мол, ему рот-то, чтоб не шибко кричал.
Кисельников. Так они с вами? Дайте, папенька, дайте! Хоть тысячу дайте, я оживу!
Боровцов. Ну нет, брат, другим годятся, кто посердитей. Ишь ты, дай ему тысячу! Легко сказать! Ты, видно, счет в деньгах-то позабыл, тысяча – много денег.
Кисельников. Уж вы отложили; вы хотели дать. Что вам стоит!
Боровцов. А ты трудись.
Кисельников. Тружусь, по ночам сижу, здоровье мое в этой работе уходит. Грош я вырабатываю, грош. Дайте денег, папенька, дайте! Я докажу, я донесу; вы меня ограбили.
Боровцов. Каких тебе денег? Мы с тобой квиты. Если ты просишь теперича себе на бедность, так нешто так просят! Нешто грубиянить старшим ты можешь? Ты б грубиянил давеча, как право имел, пока не подписал. Тогда я тебе кланялся, а теперь ты мне кланяйся. Дураки-то и всё так живут! Был я у тебя в руках, так не умел пользоваться. А теперь прощай. Никто тебя, дурака, не неволил, силой тебя не тянули подписывать-то! Что смотришь-то?
Переярков. Да об чем толковать-то! Дело покончили.
Кисельников. Уж я ничего не понимаю… Прежде голодал, так хоть впереди надежда была какая-нибудь… Бедные дети, ведь они – твои внуки!…
Боровцов. Внуков не забудем; будь и ты почтительнее, и тебе лучше будет. Форсом ничего не возьмешь.
Переярков. Ну, с Турунтаевым ты так дешево не отделаешься.
Боровцов. Турунтаеву ни копейки не дам; я теперь рассердился.
Переярков. Не дайте-ка ему, так он удавится, право удавится… Его уж раз из петли вынимали.
Боровцов. Пущай давится, – черту баран… Пойдем. Прощай, Кирюша, спасибо тебе! Постой, так не уйду, не бойся; у меня тоже чувство-то есть; свои дети были. (Вынимает из кармана несколько мелочи.) На вот! Купи детям чего-нибудь сладенького. Прощай!
Переярков. Много ты тестю помог, много. Путал его этот долг, ты ему руки развязал. Ты послушай, что он говорил! Этот долг, Кирилин, не по документу, а по совести, я заплатить должен. А ты ему простил; какой ты праздник для него сделал!
Боровцов. Как же не праздник-то, чудак! Больше пяти тысяч подарил. Прощай! (Переяркову.) Ну, уж и бумагу-то ты ловко написал! Станешь читать, так слеза и прошибает. (Уходят.)
Кисельников. Детки мои, детки! Что я с вами сделал! Вы – больные, вы – голодные; вас грабят, а отец помогает. Пришли грабители, отняли последний кусок хлеба, а я не дрался с ними, не резался, не грыз их зубами; а сам отдал, своими руками отдал последнюю вашу пищу. Мне бы самому людей грабить да вас кормить; меня бы и люди простили, и Бог простил; а я вместе, заодно с грабителями, вас же ограбил. Маменька, маменька!
Анна Устиновна входит.
ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ
Кисельников и Анна Устиновна.
Анна Устиновна. Что ты, Кирюша?
Кисельников. Маменька, посидите со мной, не уходите от меня.
Анна Устиновна. Да что ты, что ты? Бог с тобой!
Кисельников. Приносил деньги-то.
Анна Устиновна. Ну так что же, Кирюша?
Кисельников. Зачем вы меня на свет родили? Ведь я не взял денег-то.
Анна Устиновна. Что ты наделал! Варвар! Что ты с нами сделал!
Кисельников. Принесли бумагу какую-то, сунули мне, я и подписал.
Анна Устиновна. Эки злодеи, эки злодеи! На кого напали-то! Кого обидеть-то захотели! Бога они не боятся…
Кисельников. Да, маменька, пришли, ограбили, насмеялись и ушли. Ах, маменька, как мне трудно стало, грудь схватило! А работы много, вон сколько работы! Нищие мы теперь, нищие!
Анна Устиновна. Не ропщи, Кирюша, не ропщи.
Кисельников. Ох, умереть бы теперь!
Анна Устиновна. А дети-то, дети-то!
Кисельников. Да, дети! Ну, что пропало, то пропало.
Анна Устиновна. А ты посиди, отдохни; а за работу после примешься.
Кисельников. Когда отдыхать-то! Дело-то не терпит! Ну, маменька, пусть они пользуются! Не разбогатеют на наши деньги. Примусь я теперь трудиться. День и ночь работать буду. Уж вы посидите со мной! Не так мне скучно будет; а то одного-то хуже тоска за сердце сосет. (Принимается писать.)
Анна Устиновна. Посижу, посижу, всю ночку просижу с тобой.
Кисельников (про себя говорит и пишет). «А по справке оказалось: при прошении, поданном в калиновское городническое правление, малиновский мещанин Гордей Яковлев сын Кудряев представил три векселя и с протестами, писанные на имя малиновского купца Сидора Сидорова Угрюмова: первый, на сумму сто рублей, сроком…» Нет-нет, да вдруг так за сердце и ухватит, – денег-то очень жалко.
Анна Устиновна. Как же не жалко-то! При всей нашей бедности, да такую сумму…
Кисельников. Ох, уж не говорите! (Пишет сначала молча, потом говорит вслух.) «Малиновский купец Сидор Угрюмов, поданным в оное же городническое правление сведением, в коем объясняет…»