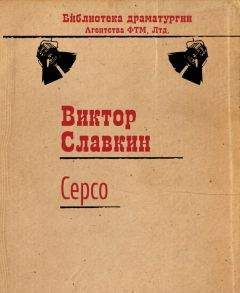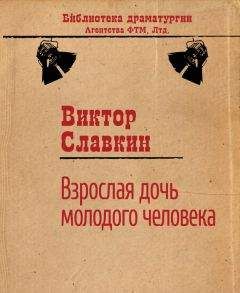Кока. Отдайте, отдайте мне это письмо! Я должен наконец его получить. (Выхватывает письмо из рук Валюши.) Почерк у нее прелестный… Жаль, букву «ять» отменили.
Надя. А я раньше, в детстве, когда старые книги смотрела, я всегда думала, «ять» – это мягкий знак. Очень смешно получалось – «Христось Воскресь».
Кока. Эта буква у нее особенно пикантно выходила… Когда я читал ее письма, эта буква была для меня как поцелуй в конце слова. (Он начинает раскачиваться над столом в такт словам.) «Яблочек катился вокруг огорода, кто его поднял – тот воеводы воеводский сын. Шышел, вышел, вон пошел…»
Надя. Браво, браво! Это горелки!
Кока. Это только счет, только счет, а потом…
Надя. Что потом?
Кока. Ну, рассчитались – как потом? Как играют? «Гори, гори, масло, гори, гори ясно…»
За столом тотчас подхватывают: «Гори, гори, масло…» Все раскачиваются в такт.
Потом все соединяются парами, а горельщик впереди и стоит спиной. Ему говорят: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло, взглянь на небо – птички летят, колокольчики звенят…» Задняя пара бежит вперед, а горельщик ее ловит и не дает снова соединиться. Вот и все.
Владимир Иванович. Я думал, там целуются…
Петушок. Это ты с «бутылочкой» перепутал.
Кока. Стоя сзади, мы, конечно, целовались. Поэтому и обороняли своих дам от горельщика. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло, взглянь на небо…» У взрослых то же самое, только присказка другая. (Наде.) «Любишь?»
Надя. «Люблю!»
Кока. «Купишь?»
Надя. «Куплю!»
Кока. «Покупай!..» Нас с Лизанькой никто не мог догнать. Я всегда обману горельщика, вильну у него под носом и встану вперед, тут уж Лизанька – и мы снова держимся за руки. Значит, горельщик, снова води! «Гори, гори, пень». – «По ком горишь?» – «По тебе, душа красавица девица». – «Любишь?»
Надя. Люблю!
Кока. «Купишь?»
Надя. Куплю!
Кока. «Покупай!» – и бежит… А я ловлю… Не поймал… Не поймал… (Закрывает лицо письмом, не в силах сдержать рыданий.)
Пауза.
Валюша. Николай Львович!.. Николай Львович!.. Ну вот, расстроили старичка.
Большая пауза.
В этой паузе начинает звучать голос Владимира Ивановича. Он читает свое письмо. Но никакого листка нет в руках его. А может быть, Владимир Иванович слышит какие-то слова и повторяет их вслух. Зыбкая атмосфера старого дома, мерцание свечей, шелест листвы за окном, витиеватость Кокиных воспоминаний…
Владимир Иванович. «Дорогая Наденька! Я имел слабость просить у вас разрешения вам писать, а вы – легкомыслие или кокетство позволить мне это. Ваш приезд в этот дом оставил во мне впечатление глубокое и мучительное. Этот день стал решающим в моей жизни. Чем более я об этом думаю, тем более убеждаюсь, что мое существование неразрывно связано с вашим; я рожден, чтобы любить вас и следовать за вами; всякая другая забота с моей стороны – заблуждение или безрассудство. Рано или поздно – не верите? – мне придется все бросить и пасть к вашим ногам. Милая! прелесть! божественная!.. А еще: ах, мерзкая! Знайте, я испытал на себе все ваше могущество, вам обязан я тем, что познал все, что есть самого судорожного и мучительного в любовном опьянении, и все, что есть в нем самого ошеломляющего. Если мы когда-нибудь снова увидимся, обещайте мне… Нет, не хочу ваших обещаний!.. Сейчас вы прекрасны, так же как в час переправы или же на антресолях, когда ваши пальцы коснулись моего лба. Это прикосновение я чувствую до сих пор – дерзкое, влажное. Но вы увянете; эта красота когда-нибудь покатится вниз, как лавина. Ваша душа некоторое время еще продержится среди стольких прелестей – а затем исчезнет, и никогда, быть может, моя душа, ее боязливая рабыня, не встретит ее в беспредельной вечности… Однако, взявшись за перо, я хотел о чем-то просить вас – уж не помню, о чем, – ах да, о дружбе… Эта просьба очень банальная, очень. Это как если бы нищий попросил хлеба – но дело в том, что мне необходима ваша близость. Прощайте, божественная. Я бешусь у ваших ног. Весь ваш – Владимир Иванович.
Постскриптум. Среди моих мрачных сожалений меня прельщает и оживляет одна лишь мысль о том, что когда-нибудь у меня будет клочок земли… в Крыму – вопрос – там смогу я совершать паломничества, бродить вокруг вашего сада, встречать вас, мельком вас видеть… Проклятый приезд, проклятый отъезд».
Пауза.
Валюша. «Дорогой мой Петушок! Милый мой, незабвенный Петенька, рука моя с трудом повинуется мне, когда я пишу эти строки. Сегодня я вспомнила всю нашу с тобой жизнь, для меня это так и звучит – жизнь, и мне она представилась одним сплошным ожиданием твоего звонка. Ты постарайся понять меня. Я женщина. И хотя мне тогда было столько, сколько сейчас Наде, я вполне могла представить себе сегодняшний день, когда мне столько, сколько мне сейчас. И ничего хорошего я не видела в этом дне. Я опять сижу у телефона, и ты снова где-то. Милый, это невыносимо! Жизнь наша так пуста и отвратительна, в ней такое счастье любить, быть рядом, – дорогой, дорогой, разве можно добровольно от этого отказываться? Не знаю, что почувствовал ты после нашего последнего разговора, я – то же, что в детстве: неожиданное выбрасывание какого-нибудь предмета из окна курьерского поезда. Пустота детской руки, только что выбросившей в окно курьерского поезда – что?.. Было и нет, и уже не видно, и не вернуть, и не вернуться – все! О твоей мягкости: ты ею откупаешься, затыкаешь этой мягкостью дыры ран, тобой наносимых. О, ты добр, ты мягок, ты мечтателен. Это – так. Не мыслю тебя ни воином, ни царем. Теперь важнейшее. О Петр, Петр, как я вечно о тебе думаю, физически оборачиваюсь в твою сторону – за помощью. Видно, счастье так мало создано для нас, что мы не признали его, когда оно было перед нами. Не говори же мне больше о нем, ради Христа! Я так много хотела сказать тебе, но написать об этом невозможно, а сказать еще невозможнее. Сил тебе и счастья. Валюша».
Пауза.
Паша. «Петя, душа моя, здравствуй! Этим письмом хотел напомнить тебе, что в понедельник, друг, нам на службу идти. Приниматься за дело, которому мы совместно посвятили вот уже более десяти лет. Поприще наше для России небезразличное, и дело свое исполнять мы должны с отменной добросовестностью и отвагой, равно как с осознанием предназначения своего, хотя не всегда результаты трудов наших совпадают с тем идеалом, который виделся нам при начале. Ты пишешь, вот тебе грустно, что неудовлетворен трудом своим, что судьба твоя зависит от людей, тобой не уважаемых, от моментов, тобой не приемлемых… Что я тебе скажу на это… А может быть, ну их! То есть не пробовал ли ты, душа моя, не думать об этих людях и моментах, выкинуть их из головы? Что их держать? Черт с ними, а? А еще, душа моя Петруша, не снился ли тебе когда-нибудь такой сон. Входишь ты в дом, в нем праздничный вечер, ты в этом доме не бывал прежде. Пробегаешь первый зал и еще несколько других. Везде освещение; то тесно между людьми, то просторно. Доходишь до последней комнаты, толпа народу, кто за ужином, кто за разговором; я там же, сижу в углу, наклонившись к кому-то, шепчу… Необыкновенно приятное чувство, и не новое, а по воспоминанию мелькает в тебе, ты повернулся, где-то был, воротился; вдруг я из той же комнаты к тебе навстречу. Первое мое слово: ты ли это, Петушок? Как переменился! Узнать нельзя. Я увлекаю тебя в уединенную длинную боковую комнату, головой приклоняюсь к твоей щеке, щека у тебя разгорелась, и – подивись! – мне труда стоило, нагибался, чтобы коснуться твоего лица, а ведь ты всегда был выше меня гораздо. Но во сне величины искажаются, а все это сон, не забудь, – сон! Тут я долго приставал к тебе с вопросом: написал ли ты что-либо для меня? Вынудил у тебя признание, что ты давно отшатнулся, отложился от всякого дела, охоты нет, ума нет… «Дай мне обещание, что напишешь!» – «Что тебе угодно?» – «Сам знаешь». – «Когда же должно быть готово?» – «Через год непременно». «Обязываюсь!» – говоришь ты. «Через год, клятву дай!» – говорю я. И ты даешь ее с трепетом. В эту минуту малорослый человек в близком от нас расстоянии, но которого ты недовидел, внятно произнес эти слова: «Лень губит всякий талант». А я, оборотясь к человеку: «Посмотри, кто здесь!..» Он поднял голову, ахнул, с визгом бросился тебе на шею… Дружески тебя душит, душит… Ты пробуждаешься. Хочешь опять позабыться тем же страшным сном. Не можешь. Выходишь освежиться. Чудное небо! Нигде звезды не светят так ярко, как в этой скучной местности… Наконец ветер подул сильнее, ночная стужа развеяла твое беспамятство, затеплил ты свечку в своей храмине, садишься к столу и живо помнишь свое обещание: во сне дано, наяву исполнится. Да так ли уж, Петруша, так ли уж?.. Впрочем, остаюсь твоим преданным слугою – Паша».