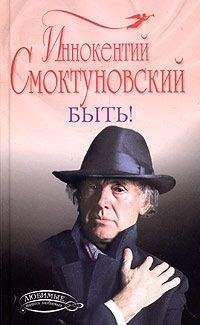Друга я ипостась свободного и естественного человека — Моцарт. Моцарт — идеал Гамлета, в нем все — гармония! Нельзя было и предположить, что фильм, словно бы изначально обреченный на иллюстрацию к фонограмме двух выдающихся певцов — Лемешева и Пирогова, даст такой результат. Что роль Моцарта сможет стать достижением именно драматического актера. Но она стала таковой.
Трудно драматическому артисту играть не разговаривая, а попадал в артикуляцию певца, чьим голосом будет озвучена его игра, очень трудно открывать рот и делать вид, что поешь и при этом еще создавать образ, играть в полную силу. Здесь происходит соединение двух искусств. Должно получиться нечто третье.
Он миновал техническую трудность совмещения своей игры с вокальным озвучанием легко, шутя, словно ее и не существовало. Он прошел ее, как проходит музыкант-виртуоз труднейшее место, так что слушатели и не подозревают, что это трудное место. Смоктуновский сосредоточился на образе Моцарта.
И снова запись тех лет…
"Смоктуновский приехал в Москву и, рассказывая о фильме, сыграл один эпизод.
Моцарт приходит к Сальери. Он принес ему "две, три мысли", чтобы проверить, какое впечатление они произведут. Моцарт бочком садится за инструмент, левая рука его на крышке клавесина, правой начинает наигрывать. И все оглядывается. Там, сзади, в кресле, смотрит ему в затылок Сальери. Моцарт знает цену двум, трем мыслям — совсем не пустячок принес он. Он наигрывает медленную часть на высоких нотах и хитро посматривает на Сальери: "Ну как тебе? Ах, не очень?! А вот сейчас?" И озорничает, как ребенок, посматривая смеющимся глазом — то ли еще будет, сейчас, сейчас! (Давно снята с крышки левая рука.) И вдруг гром аккорда на мрачных низах. Но тут уж не до Сальери. На экране печальные, трагические глаза Моцарта — ведь это же предчувствие "Реквиема". Потом он оборачивается к другу: ну как? Но этого и спрашивать не надо: обернувшись, Моцарт увидел потрясенное лицо Сальери. Пушкин, рисуя душевное состояние обоих, не дал Моцарту реплики. Он молчит, ждет. Первым заговаривает Сальери: "Ты с этим шел…" Но верный себе поэт опускает ремарки, которые, вероятно, вписал бы иной драматург: "Окончив играть, Моцарт молчит" или "потрясен" перед репликой Сальери, или что-нибудь похожее. Смоктуновский играет ненаписанные Пушкиным ремарки, все его умолчания.
Его Моцарт — человек удивительного внутреннего изящества, он в самом деле — само искусство, но он человек, прежде всего человек чуткий, добрый, отзывчивый. Оттого сцена со слепым скрипачом в фильме приобрела такое значение, кого в сценических воплощениях трагедии не имела.
Моцарту чужда жестокость Сальери, его демонстративное причисление себя к избранным. Моцарт — гений и именно поэтому прост и демократичен. Сальери, обидевший скрипача, обидел человека, это для Моцарта неприемлемо. Моцарт — Смоктуновский видит зло, но его гнетет предчувствие смерти. Печать возвышенной обреченности лежит на челе, светится в его невыразимо грустных глазах. Он понимает все — и людей, и искусство, но его талант не защищен от злодейства. И не защищается. Защищаться и нападать будет Смоктуновский — Гамлет…
Одна работа наплывала тогда на другую "Девять дней одного года" почти совпадали с "Гамлетом", но характер физика Ильи Куликова стал новым открытием артиста, находившегося на взлете своего дарования.
Любопытно, что режиссер приметил Смоктуновского давно. Смоктуновский сыграл крошечную проходную роль — эпизод в фильме "Убийство на улице Данте". Такую крошечную, что вряд ли найдется зритель, который ее запомнил. Запомнил Ромм.
Фильм — произведение тех лет, когда атомная физика сделалась средоточием проблем века, — научных, моральных, политических. Интерес к физикам стал всеобщим. Фильм Ромма ставил главные вопросы эпохи. Его герои являли как бы энциклопедию человеческих типов научной среды.
Час раздумий человека. Путь его к этому часу — едва ли не любимая тема Смоктуновского, как она определилась по его лучшим ролям. Нет общего между незадачливым шофером Геннадием и блестящим ученым Ильей Куликовым из фильма Михаила Ромма "Девять дней одного года". Почти не пользуясь гримом, Смоктуновский перевоплощается совершенно. И все-таки есть общее — Илья на пути к своему часу. Он — аристократ мысли — любит эстетику науки, наслаждается процессом мышления. Смоктуновский играет самое трудное — блестящий ум!
Он просто смотрит. Он думает. Он говорит, медленно растягивая слова. Он не спеша перебирает тысячи фотографий научного эксперимента, почти не глядя, лениво, а на самом деле молниеносно замечая все, что ему нужно, — такова культура его работы. Он обыденно произносит: "Я посчитал, это не термояд, — произносит так, как будто он не произвел величайшей сложности расчета ядерных реакций, а просто умножил два на три.
Илья Куликов — звезда теоретической физики, скептик, даже иногда кажется циником. Он тоже, как и Геннадий, плывет по течению. Правда, не оттого, что не способен глубоко задуматься, а как раз от обратного, от того, что он все обдумал и решил для себя, что мир движется и без его энтузиазма и тоже не любит громких слов и любовь их призывов и хочет быть более независимым от общества, чем окружающие.
Любопытна одна сцена. Эксперимент удался. В огромном физическом институте возникает шумное торжество, стихийное веселье. Кто танцует, кто поет, все бегут куда-то, по рельсам на тележке катят шумную компанию. И когда коридор опустел, последним идет Илья. Он ведь скептик, ему не пристало быть экспансивным, а в сущности, он по-детски застенчив. И полагая, что его никто не видит, он идет танцующей походкой шаловливого мальчишки. Он радуется со всеми, только он не любит выставлять напоказ свою радость, не хочет сливаться с шумящей толпой.
Таковы роли, давшие нам Смоктуновского.
С тех пор прошло одиннадцать лет. Он снимался много, жадно, представал в неожиданном свете. Удивлял, поражал, заставлял досадовать и сожалеть, вновь удивлял, радовал и повергал в недоумение…
Уже в 1966 году к этим четверым прибавился Деточкин из фильма Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля.
Как понять этот фильм? Как определить этого человека? Чудак? Да, чудак. Чудак немыслимый, единственный. Взявшийся в одиночку ввести в мир немедленную справедливость.
Он, понимаете ли, не мог перенести вида граждан, покупающих автомашины на нетрудовые доходы. Он у них эти машины экспроприировал (то есть угонял), не дожидаясь вмешательства милиции, суда.
Вспоминая старинные жанры, фильм можно бы отнести к трагифарсу. Но герой его в рамки какого-либо жанра не укладывается.
Этакий недотепа с хохолком, тонкой шеей, добрыми глазами. Понимающий, что так нельзя, — но что же делать, если он иначе не может?! В Деточкине артист смешал все краски, был ни на что не похож! Он сделал фильм крупнее, неожиданнее, придал ему серьезную тему.
В Деточкине было что-то чаплиновское. Печальные глаза его вспыхивали светом идеи как раз в тот момент, когда зритель готовился над ним посмеяться. В кинематографическом мире комических ситуаций он жил по закону совести…
У него были моменты высшей детской радости, как у Моцарта. Болезненной доброты, как у Мышкина. Раздумий, как у Гамлета. Интеллектуальных эскапад, как у Куликова. Но это был ни Моцарт, ни Мышкин, ни Гамлет, ни Куликов. Это был Деточкин, весь от земли, агент по страхованию в куцем пиджачке. Артист нигде не "завышал" его цену, но доказывал его ценность. Он создал Чудака! А надо сказать, что чудак — это самое сложное для артиста. Мировая литература нередко использовала образ чудака для защиты наиболее возвышенных мыслей о человеке. Чудаком был бессмертный Дон Кихот.
Он не чуждался и маленьких ролей и даже ролей, где его нет на экране. В двух фильмах он продолжил свою линию Достоевского. В "Преступлении и наказании" Льва Кулиджанова исполнил роль Порфирия Петровича. Его следователь, изучая Раскольникова, сам духовно растет. Это было неожиданно, полемично по отношению к прежним трактовкам.
Порфирия Петровича привыкли читать как некую пружину для раскрытия преступления Раскольникова, и для усугубления его нравственных мучений. Смоктуновский сосредоточивается на ценности его собственной личности. В последнем свидании своего героя с несчастным убийцей артист передает ту лихорадку спокойствия, что столь характерна для типов Достоевского.
Поняв, что Раскольников жертва сложных социальных отношений, желая смягчить его участь, Порфирий Петрович Смоктуновского проживал в этот момент и его судьбу, его путь к убийству, он как бы брал на себя психологию преступника. Артист создавал двойную психологическую проекцию — собственную внутреннюю жизнь Порфирия Петровича и его, как переживал Порфирий Петрович душевную драму Раскольникова.
В другом фильме эта линия представала в небольшой "проходной" роли.