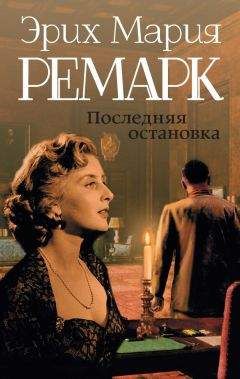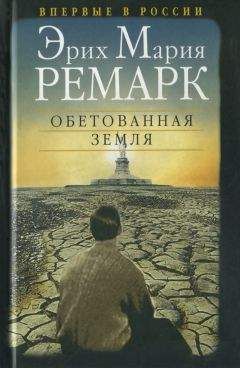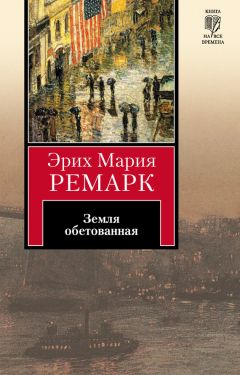и Боссе, твои врачи.
– А ты не врешь, Роберт?
– Нет, Джесси. А что, разве они тебе сами не говорили?
– Все врачи лгут, Роберт. Из милосердия.
Хирш рассмеялся.
– Тебе милосердие ни к чему, Джесси. Ты у нас отважная маркитантка.
– И ты веришь, что я отсюда выберусь? – В глазах Джесси вдруг застыл страх.
– А ты сама разве не веришь?
– Днем я пытаюсь верить. А ночью все равно не получается.
Сестра сделала запись в температурном листе, что висел в изножье кровати.
– Сколько у меня там, Людвиг? – спросила Джесси. – Я в этой их цифири по Фаренгейту ни черта не смыслю.
– Что-то около тридцати восьми, по-моему, – твердо сказал я. Я понятия не имел, как переводят с Фаренгейта на Реомюра, но одно я знал точно: для больного самый лучший ответ – быстрый.
– Вы слышали, что Берлин бомбили? – прошептала Джесси.
Хирш кивнул.
– Как в свое время и Лондон, Джесси.
– Но Париж не бомбили, – заметила она.
– Нет, американцы нет, – терпеливо согласился Роберт. – А немцам и не понадобилось, с лета сорокового Париж и так принадлежал им.
Джесси чуть виновато кивнула. В ответе Роберта она расслышала нотку легкой укоризны.
– Англичане и Баварскую площадь в Берлине разбомбили, – сказала она тихо. – Мы там жили.
– Твоей вины в этом нет, Джесси.
– Я не о том, Роберт.
– Я знаю, о чем ты, Джесси. Но вспомни «Ланский катехизис», параграф второй: «Никогда не делай несколько дел одновременно, нельзя забивать себе мозги, когда за тобой охотится гестапо». Твое дело сейчас выздоравливать. И как можно скорее. Ты нам всем нужна, Джесси.
– Здесь-то для чего? Кофе вас угощать? Здесь я никому уже не нужна.
– Люди, полагающие, что они никому не нужны, на самом деле часто самые нужные. Мне, например, ты очень нужна.
– Брось, Роберт, – возразила Джесси с неожиданным кокетством в голосе. – Тебе никто не нужен.
– Ты нужна мне больше всех, Джесси. Так что уж храни мне верность.
Странный это был диалог – почти как общение гипнотизера со своим медиумом, но было в нем и что-то еще, нечто вроде ласкового, бескорыстного, тихого объяснения в любви новоявленного волшебника Роберта к этой старой, покорно внимающей ему женщине, над которой, казалось, каждое его слово простирает покров утешения и спасительной дремоты.
– Вам пора идти, – сказала сестра.
Двойняшки, которые тоже еще оставались в палате, мгновенно вскочили. В сиянии холодного неонового света они казались призрачно бледными и почти бесплотными.
Хотя на обеих были ладные, в обтяжку, темно-синие джинсы. Они все еще терпеливо надеялись, что их возьмут в кино. Мы двинулись по пустынному в этот час больничному коридору. Двойняшки танцующим шагом шли перед нами. «Ах, какое зрелище для обожателя задиков Баха!» – подумал я.
– Странно, – сказал я, – что они до сих пор никого себе здесь не подцепили.
– Так они не хотят никого, – объяснил Хирш. – Живут у Джесси и ждут своего шанса выступить где-нибудь вдвоем, именно как сестры-близнецы. Потому так судорожно друг за дружку и держатся. Ведь их порознь не встретишь. Каждая думает, что без другой пропадет.
Мы вышли на улицу и сразу окунулись в ее все еще теплую вечернюю суету. Мимо торопливо сновали люди, не желающие ничего знать о смерти.
– Так что с Джесси, Роберт? – спросил я. – Ее правда так скоро выпишут?
Хирш кивнул.
– Они ее вскрыли, Людвиг, и тут же снова заштопали. Джесси ничем не спасти. Я спрашивал Равика. Метастазы повсюду. Когда помочь уже нельзя, в Америке не мучат людей бессмысленными операциями. Им просто дают спокойно умереть, если, конечно, можно назвать спокойной смертью, когда человек орет от боли весь день и даже морфий ему не помогает. Но Равик надеется, что ей еще осталось несколько месяцев более или менее сносной жизни. – Хирш остановился и посмотрел на меня с выражением бессильной ярости во взгляде. – Еще год назад ее можно было спасти. Но она ни на что не жаловалась, думала, так, болячки от возраста, что-то другое всегда было важней. Вокруг же полно несчастных, о которых ей нужно было позаботиться. Вечно этот идиотский героизм самопожертвования! А теперь вот валяется, и ее никакими силами не спасти.
– Она догадывается?
– Конечно, догадывается. Как все эмигранты, она ни в какой хороший конец вообще никогда не верит. Почему, думаешь, я весь этот театр устраивал? Ах, Людвиг! Давай-ка зайдем ко мне, выпьем по рюмке. Не ожидал, что на меня это так подействует.
Мы молча шли по вечерним улицам, на мостовых которых мягкий, меркнущий сентябрьский свет смешивался с разгорающимися огнями тысяч витрин. Я наблюдал за Хиршем во время его разговора с Джесси. Не только ее, но и его лицо при этом изменилось, и мне почудилось, что не одни глаза Джесси подернулись мечтательной дымкой воспоминаний – суровые черты маккавея Хирша тоже. Я-то знал: воспоминания, если уж хочешь ими пользоваться, надо держать под неусыпным контролем, как яд, иначе они могут и убить. Украдкой я взглянул на Хирша. Лицо его приняло свое обычное выражение, слегка напряженное и замкнутое.
– А что будет, когда Джесси уже не сможет переносить мучения? – спросил я.
– По-моему, Равик не даст ей страдать и не станет держать ее в концлагере Господа Бога распятой на больничной койке, – мрачно ответил Хирш. – Он, конечно, подождет, пока Джесси сама этого не захочет. Пусть даже она ему об этом не скажет. Равик сам за нее все почувствует. Как почувствовал за Джоан Маду. Только не верю я, что Джесси этого захочет. Она будет бороться за каждый час жизни.
Роберт Хирш открыл дверь своего магазина. Нас с порога обдало холодным дыханием кондиционера.
– Как из могилы Лазаря, – буркнул Хирш и отключил охлаждение. – По-моему, он нам сейчас уже ни к чему, – добавил он. – Ненавижу этот отвратительный, искусственный воздух! Лет через сто люди вообще будут жить под землей из страха перед достижениями человечества. Поверь, Людвиг, эта война не последняя. – Он принес бутылку коньяка. – Ты-то, наверно, у твоего господина Блэка теперь не таким коньяком угощаешься, – пробормотал он с кривой усмешкой. – У антикваров всегда коньяк отличный. Профессиональная необходимость.
– Покойный Зоммер, мой учитель и крестный, коньяка вообще не держал, – возразил я. – И я предпочту выпить стакан воды с тобой, чем с Блэком смаковать его «Наполеон». Как поживает Кармен?
– По-моему, ей со мной скучно.
– Что за бред! Скорее я могу предположить, что тебе с ней скучно…
Он покачал головой.
– Это исключено. Я же тебе объяснял. Мне никогда не понять ее, поэтому и ей меня никогда не понять. Она для меня –